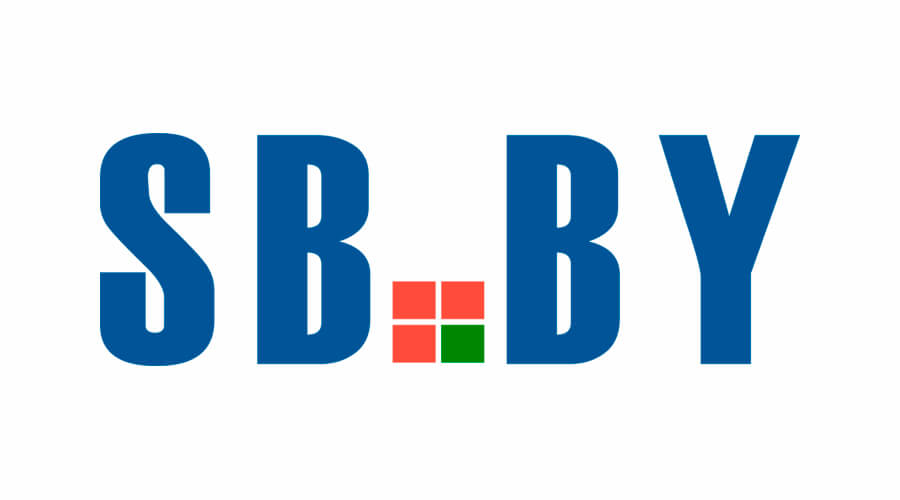Первую олимпийскую медаль в истории белорусского фристайла в 1998 году завоевал Дмитрий Дащинский. Однако случиться дебют мог четырьмя годами раньше. Более того, по мнению многих специалистов, выступавший на Играх в Лиллехаммере Алексей Парфенков должен был и вовсе становиться чемпионом! Готов парень был отменно, выиграл квалификацию, но в финале выглядел тенью самого себя. Перегорел. Во многом именно благодаря выступлению Парфенкова в Лиллехаммере в Беларуси поняли, что экзотический доселе фристайл при должной поддержке вполне может претендовать на награды. Однако на следующие Игры в Японию Парфенков не попал, уступив дорогу товарищу и сопернику по сборной Дмитрию Дащинскому и неожиданно для многих завершив карьеру. Сам Алексей те времена вспоминает редко и говорит о них неохотно. Да и в Минске бывает нечасто: давным–давно переехал в Москву, где вполне успешно занимается бизнесом. Поэтому встреча с ним в зале на проспекте Победителей, где белорусская сборная готовится к своей шестой Олимпиаде, — большая удача.
Первую олимпийскую медаль в истории белорусского фристайла в 1998 году завоевал Дмитрий Дащинский. Однако случиться дебют мог четырьмя годами раньше. Более того, по мнению многих специалистов, выступавший на Играх в Лиллехаммере Алексей Парфенков должен был и вовсе становиться чемпионом! Готов парень был отменно, выиграл квалификацию, но в финале выглядел тенью самого себя. Перегорел. Во многом именно благодаря выступлению Парфенкова в Лиллехаммере в Беларуси поняли, что экзотический доселе фристайл при должной поддержке вполне может претендовать на награды. Однако на следующие Игры в Японию Парфенков не попал, уступив дорогу товарищу и сопернику по сборной Дмитрию Дащинскому и неожиданно для многих завершив карьеру. Сам Алексей те времена вспоминает редко и говорит о них неохотно. Да и в Минске бывает нечасто: давным–давно переехал в Москву, где вполне успешно занимается бизнесом. Поэтому встреча с ним в зале на проспекте Победителей, где белорусская сборная готовится к своей шестой Олимпиаде, — большая удача.— Я уже давно не тренируюсь. Лишь время от времени заглядываю в зал для поддержания формы. От спорта отошел, причем переход этот дался мне на удивление легко. Человеку ведь сложнее всего перестроиться психологически. Но если ты не зацикливался на одном только спорте, если были и другие интересы в жизни, то само по себе завершение карьеры — проблема небольшая. Человек должен всегда куда–то стремиться. Просто цели периодически меняются.
— Считаешь, что достиг всех целей в спорте?
— Естественно, нет. Недосказанность осталась, и большая. Но у меня был тот случай, который обычно описывают словами «так сложилось». Начались непонимания внутри команды: у меня жена в Москве жила, приходилось постоянно ездить туда–сюда... В общем, думал я недолго.
— Многие прочили тебе медаль в Нагано. Не жалел потом об уходе, когда смотрел за выступлениями наших ребят на Олимпиадах?
— А что жалеть? Я привык в жизни поступать, как на трамплине. Если уже оттолкнулся, то жалеть поздно. Нужно идти до конца.
— Как относишься к мнению, что именно Алексей Парфенков официально открыл для Беларуси фристайл?
— Скажем так: сейчас ребятам выступать и готовиться, конечно, проще. Но не из–за того, что я там как–то выступил. Просто есть система: наработки, которые постепенно развиваются. Белорусский фристайл сегодня лишь потому и держится, что работающим в нем людям удалось сохранить то, что уже было сделано, и постоянно совершенствовать знания, не дергаясь из стороны в сторону. В отличие от большинства других союзных республик здесь остались преемственность и связь между поколениями. Мы ведь как начинали: выезжаешь и смотришь, как прыгают иностранцы. Потом пытаешься повторить. Базовая подготовка хорошая была, позволяла экспериментировать. В команду ребята приходили из акробатики, из прыжков в воду... Я, например, из гимнастики перешел. Это очень мощная основа. И это не только спортсменов касается, но и тренеров. Китайцы, вспомни, тоже на начальном этапе к советским наработкам обратились. Наших специалистов переманили, а потом доработали созданную ими систему. А когда системы нет... Я вот гимнастикой с 9 лет занимался. Хорошо помню, какая в ней в союзные времена четкая система была. Тренировки, отдых, питание — все по науке. Потом те люди, которые перешли из гимнастики или других видов во фристайл, перенесли с собой и принципы работы. От неотъемлемого для координационной подготовки бадминтона до комплексов на гибкость. А в гимнастике, судя по результатам, системность эта пропала вместе с разъехавшимися в разные стороны специалистами. Люди — вот что всегда было залогом успеха. Особенно в таких трудоемких видах, как гимнастика или фристайл. И то обстоятельство, что сегодня молодые спортсмены могут вот так запросто тренироваться в одном зале с Лешей Гришиным или Димой Дащинским, дорогого стоит.
— Во фристайле в последнее время тоже наметилась настораживающая тенденция. Один за другим в Россию уехали Тимофей и Ассоль Сливец, тренер Василий Воробьев, помогавший здесь Николаю Козеко, — подался в Украину...
— То, что уехали спортсмены, — беда небольшая. Тем более, как видно по результатам, они так и не смогли до конца вписаться в новую систему. Да и не во что там вписываться было. В российском спорте вечная внутренняя борьба. Причем все эти споры специалистов о том, кто лучше умеет тренировать, «заточены» исключительно на деньги. В конечном же итоге там просто не осталось тех, кто мог бы действительно основательно и качественно работать. И потому, кстати, отъезд Воробьева в Украину — потеря. Тренеров, которые знают, как работать системно, и умеют это делать, нужно сохранять всеми силами. Но тут наверняка вмешались еще и какие–то внутренние течения. Я ведь и сам из–за этого закончил: людей, как правило, не ценят. Вспоминают лишь когда уже становится поздно. Кстати, у меня, когда начались недопонимания в Беларуси, был вариант переезда в Россию. Но местная федерация не отпустила. Они–то знали, что я хорошо готов и мог бы выступать на высоком уровне. Потому и решили, что лучше, чтобы я никому не достался.
— Говорят, ты тоже не подарок был...
— Мы тогда просто не сошлись во мнениях с Николаем Козеко. Он сказал, что у меня уже нет перспектив, к тому же ему не нравились мои постоянные отлучки, свободные передвижения. Он в общем–то тоже был прав, так что обид у меня не осталось. Просто сделал выбор и закончил карьеру.
— Иногда кажется, что популярность фристайла в Беларуси не сильно изменилась со времен Олимпиады в Лиллехаммере.
— Для роста популярности нужно несколько слагаемых. Во–первых, наглядность. Только оказавшись возле трамплина, можно оценить всю красоту фристайла. С прыжками с трамплина, кстати, такая же ситуация — вживую просто дух захватывает! А когда соревнования даже по телевизору не показывают — о чем тут можно говорить? Во–вторых, для появления массовости нужен стимул. Дети должны видеть, что кто–то, кто поднялся до уровня, скажем, национальной сборной, достиг чего–то значимого, получает вполне адекватное вознаграждение. А когда его нет, то на склоне остаются лишь фанатики. И опасность прыжков здесь ни при чем. В хоккее вероятность получить серьезную травму куда выше, и если бы во фристайле платили столько, сколько там, поверьте, здесь бы очередь в зал стояла. Простой пример: в России, для того чтобы довести хоккеиста до 15–летнего возраста, родителям нужно выложить очень серьезную сумму. Частные уроки, экипировка... Но при этом даже в Москве, где много катков, свободного льда не найти. У меня жена фигуристка, дочка занимается — я в курсе ситуации. А все потому, что родители понимают: эти затраты — своего рода инвестиции в будущее. Если парень заиграет хотя бы на уровне местного чемпионата, он заработает в разы больше. И что бы там ни говорили о спортивных достижениях и патриотизме — человеческая сущность неизменна. А что мы видим во фристайле? Вот потому и приходят лишь считанные фанаты: те, которым просто нравится летать.
— В такие моменты принято вспоминать советские времена, когда все выступали за идею...
— Это, кстати, большое заблуждение. В спорте всегда думали о деньгах. Просто система поощрения выглядела немного иначе. Попал в сборную СССР — автоматически получил квартиру. Это что, не стимул? На чистом энтузиазме далеко не уедешь, а искать другие пути и тем более браться за кнут — просто глупо. Всем давно пора понять: спорт — это бизнес. Для государства тоже. И, как в любом бизнесе, каждый пытается достичь максимальных результатов с минимальными затратами. Вопрос лишь в том, как и куда вкладывать. Меньше вложил — меньше отдача, вложил не туда — потерял, экономишь на том, на чем нельзя, — рискуешь остаться ни с чем. Олимпийская медаль — она ведь дорого стоит: посмотри, сколько Россия тратит на спорт!
— Многие считают, что как раз в России спорт и спортсмены переоценены...
— Не согласен. Просто у каждой страны свои масштабы и расходы. Кто–то одной медали радуется, а кому–то сотни наград мало. Отсюда и затраты. Другое дело, что просто выделять деньги мало. У нас ведь чаще всего финансирование просят под обещания. Есть у кого–то 100 молодых спортсменов, он обещает через четыре года дать медаль. А потом — не сложилось. Оно и вправду может просто «не сложиться» — это ведь спорт. Но в этом случае уже возникает вопрос стратегии страны: хочет она дальше вкладывать, есть у нее возможность развивать это направление или уже нет? Хорошо, когда возможности, как у России. А если нет, то необходимо четко решить, в какие виды спорта выгодно инвестировать, а в какие — нет. Решение, конечно, сложное и непопулярное, но иначе весь бизнес пойдет ко дну. Но так, к сожалению, происходит не всегда, потому и получаются ситуации, как во фристайле. В Беларуси ведь начиная с Нагано лыжная акробатика всегда приносила медали. Такого ни в одной стране нет. При этом ситуация и проблемы за это время практически не изменились. И насколько еще хватит старых запасов — большой вопрос.