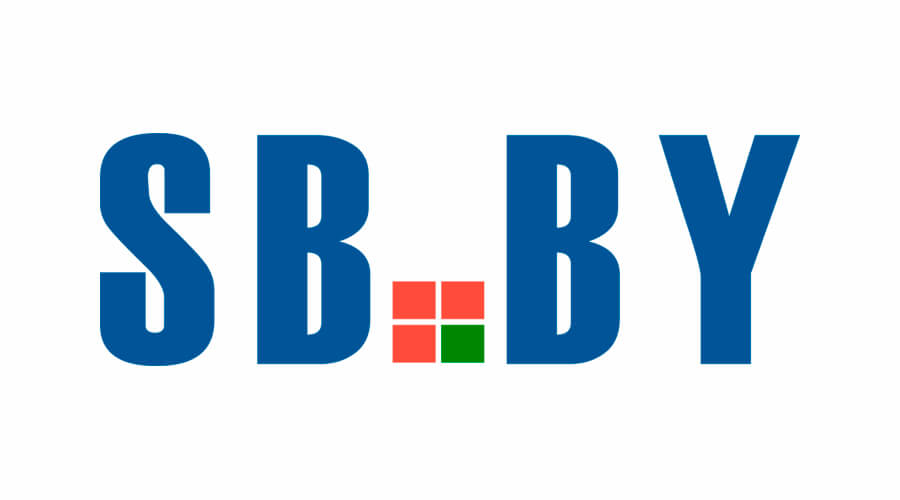Периодически у многих из нас появляется неудержимое желание взобраться
на интеллектуальные кручи. Обозреть, так сказать, окрестности, показать пальчиком в сияющую даль, побронзоветь в душе, размышляя о грядущем собрании сочинений. Хочется почувствовать себя на одном уровне если не с нобелевским лауреатом, то хотя бы с "держателем" какой-нибудь местной премии, скажем, имени градоначальника имярек. Рядом с мучительно-радостной мыслишкой "А чем я хуже?" начинает шевелиться спокойно-уверенное "Мы тоже мог„м", после чего родина получает от своего любящего сына совсем не нужные
ей уверения в преданности в форме любовно взращенных фолиантов.
Конечно, любой человек, хоть каким-нибудь боком повернутый к науке, отстаивает свое незыблемое право писать о том, что хочется. "Душа горит" - ведь это и о науке. Всегда есть желание углубиться, например, в историю дождя или в проблему меню наших предков. Ведь и в самом деле интересно: прабабушка с прадедушкой трюфели ели с картошкой или предпочитали их в компании, так сказать, с мочеными лосиными губами? Как-то довелось полистать темы курсовых и дипломных работ студентов-историков. Чего там только нет: и экзистенциальные метания Жан Поля Сартра, и некие малоизвестные персоналии, и проекты социального переустройства вроде "Города Солнца" Томмазо Кампанеллы. А того, что фактически лежит под ногами, все же явно недостаточно.
Как-то туговато у нас с презренным прагматизмом. Все больше одолевают идеальные мотивы, некие поиски, искания. Часто хочется беспричинно плакать и так же хохотать, судорожно сжимая узловатой ладошкой запотевший крестик на впалой груди. Смутный романтизм, склонность к социальной мечте, готовность каяться в любой момент и по любому поводу, колебания между идеализацией народа и упреками его же в "дикости" проявляются, например, в оппозиционной мечте о "вечной и великой" Беларуси, проливаются многими страницами идеализированных описаний прошлого страны. А любые "приземленные" контраргументы воспринимаются этими носителями "подлинной" народности как символ непонимания. Что напоминает известный рассказ Генриха Гейне о смерти Гегеля. Когда Гегель лежал на смертном одре, окруженный учениками, он промолвил: "Только один из вас меня понял". Когда же к нему наклонились возбужденные головы, Гегель с досадой промолвил: "Да и тот меня не понял".
А ведь и прагматичных (но не менее глубоких) проблем хватает. Вот недавно в Бресте провели республиканскую конференцию с вполне нашим девизом: "Государственность на Беларуси: генезис и перспективы". Собрались серьезные люди, обсудили проблемы философского, исторического характера, издали, извините за выражение, тезисы. Как результат, возникло понимание необходимости продолжения обсуждения заявленных на конференции проблем, причем не только в узком академическом кругу, но и с привлечением интеллектуальных сил властных структур, и усиления практического аспекта обсуждаемых тем.
То есть проблема достаточно ясна: жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Именно так ставил вопрос известный классик. И если бы он один! "Коль скоро Прометей похитил огонь, то должен теперь примириться с оковами и коршуном... Нельзя безнаказанно отведать от дерева бессмертия" - это Бисмарк, которого достаточно безосновательно представляют тупым пруссаком. А Уинстон Черчилль? После известного поражения Франции в столкновении с фашизмом английский премьер-министр "приголубил" генерала де Голля. Как оказалось, французский беглец был великим прагматиком и неистово отстаивал национальные интересы своей страны, прежде всего колониальные. Имея в виду именно этот аспект, Черчилль замечал: когда генерала де Голля сравнивали с Жанной д`Арк, я не видел в этом ничего странного.
Из этих немногих примеров достаточно ясно следует, что прагматизм в науке, в том числе исторической, социальной, вовсе не означает грубого социального заказа исключительно в форме выкручивания нежных профессорских рук. Прагматизм в науке предполагает уяснение того простого факта, что государство рассчитывает на понимание своих проблем со стороны ученых, более того, видит в них своих активных союзников в непростом деле становления и развития гражданского общества. Конечно, это предполагает и обратный процесс: ученый мир, в свою очередь, хочет видеть со стороны государства не просто декларации с бодрым рефреном "Поможем!", но и конкретные дела, ориентированные прежде всего на эффективное использование научных разработок и создание соответствующего (комфортного) морального климата. Есть и еще одна проблема: презренный металл. Вопрос хочется поставить в следующем аспекте: необходимо не бить по рукам вузы, академические структуры в том случае, когда есть реальные научные разработки и пусть хотя бы робкие попытки их использования в той или иной социально-производственной сфере. Имеется в виду налоговое, контролирующее давление. Ведь можно поставить тот или иной научный коллектив в рамки эксперимента с льготными условиями - естественно, в перспективе потребовав ответ на вопрос об эффективности использования целевых средств.
Думается, есть и еще одна грань проблемы. Достаточно глупо сегодня выдвигать некие навязчивые призывы, подобно бытовавшим ранее. Например, "Народ и партия едины" - то есть "государство и ученый мир - братья навек". Однако что необходимо - это возможность говорить на одном языке, патриотизм, защита национальных интересов, совместная работа на благо Отечества. Если есть такая необходимость, надевать сапоги - и метафорические, и реальные, сталкиваться с не очень веселыми и далекими от благоухающего идеализма проблемами, искать и находить выход в непростых жизненных ситуациях не за счет людей, а во их благо. Не становиться в антигосударственную позу ради самой позы, а пытаться решать реальные проблемы нашего социального бытия. В этой связи мне достаточно часто вспоминается известный славянофил Алексей Хомяков. Ему в царской крепостнической России можно было осуществлять оппозиционные демарши либо в форме традиционного дворянского ничегонеделания, либо в виде эмиграционных скептических размышлений о сути прогнившего социального явления. А он едет в деревню, надевает те же сапоги, выписывает агрономическую и прочую литературу, пытается что-то сделать не только на бумаге (что ему блестяще удалось), но и на деле (что получилось в гораздо меньшей степени). Высмеять идеализм помещиков, пытающихся привить английскую культуру земледелия в России начала XIX века, несложно. Гораздо труднее сделать на грамм реального, чтобы рано или поздно этот грамм все же перерос в увесистые килограммы и тонны.
Не нужно забывать и о том, что фактически все крупные государственные деятели были грубыми прагматиками в отношении использования интеллектуального потенциала нации. Вспомним навскидку. Петр Миронович Машеров как-то заметил, что обществоведы обходят тему влияния профсоюзов на жизнь общества. И тут же посыпались книги-диссертации с клишированными заголовками: "Белорусские профсоюзы в седьмой пятилетке" и, естественно, в восьмой, девятой и так далее. А современное американское государство в лице президента Буша? Сказано не писать душераздирающих репортажей о событиях 11 сентября - и будь добр, распишись в уголке о выполнении. Таким образом, несложно сделать основной вывод: государство всегда будет просить своих интеллектуальных граждан иногда слезать с интеллектуальных же круч, обращать сияющий взор на серую обыденность, заменяя по мере возможности кухонную оппозиционность реальными делами. Что, впрочем, вовсе не исключает появления достаточно интересных работ с интригующими названиями "Из истории белорусского дождя" или "Особенности меню белорусских мещан в девятнадцатом столетии".
Периодически у многих из нас появляется неудержимое желание взобраться
на интеллектуальные кручи. Обозреть, так сказать, окрестности, показать пальчиком в сияющую даль, побронзоветь в душе, размышляя о грядущем собрании сочинений. Хочется почувствовать себя на одном уровне если не с нобелевским лауреатом, то хотя бы с "держателем" какой-нибудь местной премии, скажем, имени градоначальника имярек. Рядом с мучительно-радостной мыслишкой "А чем я хуже?" начинает шевелиться спокойно-уверенное "Мы тоже мог„м", после чего родина получает от своего любящего сына совсем не нужные
ей уверения в преданности в форме любовно взращенных фолиантов.
Конечно, любой человек, хоть каким-нибудь боком повернутый к науке, отстаивает свое незыблемое право писать о том, что хочется. "Душа горит" - ведь это и о науке. Всегда есть желание углубиться, например, в историю дождя или в проблему меню наших предков. Ведь и в самом деле интересно: прабабушка с прадедушкой трюфели ели с картошкой или предпочитали их в компании, так сказать, с мочеными лосиными губами? Как-то довелось полистать темы курсовых и дипломных работ студентов-историков. Чего там только нет: и экзистенциальные метания Жан Поля Сартра, и некие малоизвестные персоналии, и проекты социального переустройства вроде "Города Солнца" Томмазо Кампанеллы. А того, что фактически лежит под ногами, все же явно недостаточно.
Как-то туговато у нас с презренным прагматизмом. Все больше одолевают идеальные мотивы, некие поиски, искания. Часто хочется беспричинно плакать и так же хохотать, судорожно сжимая узловатой ладошкой запотевший крестик на впалой груди. Смутный романтизм, склонность к социальной мечте, готовность каяться в любой момент и по любому поводу, колебания между идеализацией народа и упреками его же в "дикости" проявляются, например, в оппозиционной мечте о "вечной и великой" Беларуси, проливаются многими страницами идеализированных описаний прошлого страны. А любые "приземленные" контраргументы воспринимаются этими носителями "подлинной" народности как символ непонимания. Что напоминает известный рассказ Генриха Гейне о смерти Гегеля. Когда Гегель лежал на смертном одре, окруженный учениками, он промолвил: "Только один из вас меня понял". Когда же к нему наклонились возбужденные головы, Гегель с досадой промолвил: "Да и тот меня не понял".
А ведь и прагматичных (но не менее глубоких) проблем хватает. Вот недавно в Бресте провели республиканскую конференцию с вполне нашим девизом: "Государственность на Беларуси: генезис и перспективы". Собрались серьезные люди, обсудили проблемы философского, исторического характера, издали, извините за выражение, тезисы. Как результат, возникло понимание необходимости продолжения обсуждения заявленных на конференции проблем, причем не только в узком академическом кругу, но и с привлечением интеллектуальных сил властных структур, и усиления практического аспекта обсуждаемых тем.
То есть проблема достаточно ясна: жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Именно так ставил вопрос известный классик. И если бы он один! "Коль скоро Прометей похитил огонь, то должен теперь примириться с оковами и коршуном... Нельзя безнаказанно отведать от дерева бессмертия" - это Бисмарк, которого достаточно безосновательно представляют тупым пруссаком. А Уинстон Черчилль? После известного поражения Франции в столкновении с фашизмом английский премьер-министр "приголубил" генерала де Голля. Как оказалось, французский беглец был великим прагматиком и неистово отстаивал национальные интересы своей страны, прежде всего колониальные. Имея в виду именно этот аспект, Черчилль замечал: когда генерала де Голля сравнивали с Жанной д`Арк, я не видел в этом ничего странного.
Из этих немногих примеров достаточно ясно следует, что прагматизм в науке, в том числе исторической, социальной, вовсе не означает грубого социального заказа исключительно в форме выкручивания нежных профессорских рук. Прагматизм в науке предполагает уяснение того простого факта, что государство рассчитывает на понимание своих проблем со стороны ученых, более того, видит в них своих активных союзников в непростом деле становления и развития гражданского общества. Конечно, это предполагает и обратный процесс: ученый мир, в свою очередь, хочет видеть со стороны государства не просто декларации с бодрым рефреном "Поможем!", но и конкретные дела, ориентированные прежде всего на эффективное использование научных разработок и создание соответствующего (комфортного) морального климата. Есть и еще одна проблема: презренный металл. Вопрос хочется поставить в следующем аспекте: необходимо не бить по рукам вузы, академические структуры в том случае, когда есть реальные научные разработки и пусть хотя бы робкие попытки их использования в той или иной социально-производственной сфере. Имеется в виду налоговое, контролирующее давление. Ведь можно поставить тот или иной научный коллектив в рамки эксперимента с льготными условиями - естественно, в перспективе потребовав ответ на вопрос об эффективности использования целевых средств.
Думается, есть и еще одна грань проблемы. Достаточно глупо сегодня выдвигать некие навязчивые призывы, подобно бытовавшим ранее. Например, "Народ и партия едины" - то есть "государство и ученый мир - братья навек". Однако что необходимо - это возможность говорить на одном языке, патриотизм, защита национальных интересов, совместная работа на благо Отечества. Если есть такая необходимость, надевать сапоги - и метафорические, и реальные, сталкиваться с не очень веселыми и далекими от благоухающего идеализма проблемами, искать и находить выход в непростых жизненных ситуациях не за счет людей, а во их благо. Не становиться в антигосударственную позу ради самой позы, а пытаться решать реальные проблемы нашего социального бытия. В этой связи мне достаточно часто вспоминается известный славянофил Алексей Хомяков. Ему в царской крепостнической России можно было осуществлять оппозиционные демарши либо в форме традиционного дворянского ничегонеделания, либо в виде эмиграционных скептических размышлений о сути прогнившего социального явления. А он едет в деревню, надевает те же сапоги, выписывает агрономическую и прочую литературу, пытается что-то сделать не только на бумаге (что ему блестяще удалось), но и на деле (что получилось в гораздо меньшей степени). Высмеять идеализм помещиков, пытающихся привить английскую культуру земледелия в России начала XIX века, несложно. Гораздо труднее сделать на грамм реального, чтобы рано или поздно этот грамм все же перерос в увесистые килограммы и тонны.
Не нужно забывать и о том, что фактически все крупные государственные деятели были грубыми прагматиками в отношении использования интеллектуального потенциала нации. Вспомним навскидку. Петр Миронович Машеров как-то заметил, что обществоведы обходят тему влияния профсоюзов на жизнь общества. И тут же посыпались книги-диссертации с клишированными заголовками: "Белорусские профсоюзы в седьмой пятилетке" и, естественно, в восьмой, девятой и так далее. А современное американское государство в лице президента Буша? Сказано не писать душераздирающих репортажей о событиях 11 сентября - и будь добр, распишись в уголке о выполнении. Таким образом, несложно сделать основной вывод: государство всегда будет просить своих интеллектуальных граждан иногда слезать с интеллектуальных же круч, обращать сияющий взор на серую обыденность, заменяя по мере возможности кухонную оппозиционность реальными делами. Что, впрочем, вовсе не исключает появления достаточно интересных работ с интригующими названиями "Из истории белорусского дождя" или "Особенности меню белорусских мещан в девятнадцатом столетии". Кручи интеллекта
Периодически у многих из нас появляется неудержимое желание взобраться на интеллектуальные кручи.
 Периодически у многих из нас появляется неудержимое желание взобраться
на интеллектуальные кручи. Обозреть, так сказать, окрестности, показать пальчиком в сияющую даль, побронзоветь в душе, размышляя о грядущем собрании сочинений. Хочется почувствовать себя на одном уровне если не с нобелевским лауреатом, то хотя бы с "держателем" какой-нибудь местной премии, скажем, имени градоначальника имярек. Рядом с мучительно-радостной мыслишкой "А чем я хуже?" начинает шевелиться спокойно-уверенное "Мы тоже мог„м", после чего родина получает от своего любящего сына совсем не нужные
ей уверения в преданности в форме любовно взращенных фолиантов.
Конечно, любой человек, хоть каким-нибудь боком повернутый к науке, отстаивает свое незыблемое право писать о том, что хочется. "Душа горит" - ведь это и о науке. Всегда есть желание углубиться, например, в историю дождя или в проблему меню наших предков. Ведь и в самом деле интересно: прабабушка с прадедушкой трюфели ели с картошкой или предпочитали их в компании, так сказать, с мочеными лосиными губами? Как-то довелось полистать темы курсовых и дипломных работ студентов-историков. Чего там только нет: и экзистенциальные метания Жан Поля Сартра, и некие малоизвестные персоналии, и проекты социального переустройства вроде "Города Солнца" Томмазо Кампанеллы. А того, что фактически лежит под ногами, все же явно недостаточно.
Как-то туговато у нас с презренным прагматизмом. Все больше одолевают идеальные мотивы, некие поиски, искания. Часто хочется беспричинно плакать и так же хохотать, судорожно сжимая узловатой ладошкой запотевший крестик на впалой груди. Смутный романтизм, склонность к социальной мечте, готовность каяться в любой момент и по любому поводу, колебания между идеализацией народа и упреками его же в "дикости" проявляются, например, в оппозиционной мечте о "вечной и великой" Беларуси, проливаются многими страницами идеализированных описаний прошлого страны. А любые "приземленные" контраргументы воспринимаются этими носителями "подлинной" народности как символ непонимания. Что напоминает известный рассказ Генриха Гейне о смерти Гегеля. Когда Гегель лежал на смертном одре, окруженный учениками, он промолвил: "Только один из вас меня понял". Когда же к нему наклонились возбужденные головы, Гегель с досадой промолвил: "Да и тот меня не понял".
А ведь и прагматичных (но не менее глубоких) проблем хватает. Вот недавно в Бресте провели республиканскую конференцию с вполне нашим девизом: "Государственность на Беларуси: генезис и перспективы". Собрались серьезные люди, обсудили проблемы философского, исторического характера, издали, извините за выражение, тезисы. Как результат, возникло понимание необходимости продолжения обсуждения заявленных на конференции проблем, причем не только в узком академическом кругу, но и с привлечением интеллектуальных сил властных структур, и усиления практического аспекта обсуждаемых тем.
То есть проблема достаточно ясна: жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Именно так ставил вопрос известный классик. И если бы он один! "Коль скоро Прометей похитил огонь, то должен теперь примириться с оковами и коршуном... Нельзя безнаказанно отведать от дерева бессмертия" - это Бисмарк, которого достаточно безосновательно представляют тупым пруссаком. А Уинстон Черчилль? После известного поражения Франции в столкновении с фашизмом английский премьер-министр "приголубил" генерала де Голля. Как оказалось, французский беглец был великим прагматиком и неистово отстаивал национальные интересы своей страны, прежде всего колониальные. Имея в виду именно этот аспект, Черчилль замечал: когда генерала де Голля сравнивали с Жанной д`Арк, я не видел в этом ничего странного.
Из этих немногих примеров достаточно ясно следует, что прагматизм в науке, в том числе исторической, социальной, вовсе не означает грубого социального заказа исключительно в форме выкручивания нежных профессорских рук. Прагматизм в науке предполагает уяснение того простого факта, что государство рассчитывает на понимание своих проблем со стороны ученых, более того, видит в них своих активных союзников в непростом деле становления и развития гражданского общества. Конечно, это предполагает и обратный процесс: ученый мир, в свою очередь, хочет видеть со стороны государства не просто декларации с бодрым рефреном "Поможем!", но и конкретные дела, ориентированные прежде всего на эффективное использование научных разработок и создание соответствующего (комфортного) морального климата. Есть и еще одна проблема: презренный металл. Вопрос хочется поставить в следующем аспекте: необходимо не бить по рукам вузы, академические структуры в том случае, когда есть реальные научные разработки и пусть хотя бы робкие попытки их использования в той или иной социально-производственной сфере. Имеется в виду налоговое, контролирующее давление. Ведь можно поставить тот или иной научный коллектив в рамки эксперимента с льготными условиями - естественно, в перспективе потребовав ответ на вопрос об эффективности использования целевых средств.
Думается, есть и еще одна грань проблемы. Достаточно глупо сегодня выдвигать некие навязчивые призывы, подобно бытовавшим ранее. Например, "Народ и партия едины" - то есть "государство и ученый мир - братья навек". Однако что необходимо - это возможность говорить на одном языке, патриотизм, защита национальных интересов, совместная работа на благо Отечества. Если есть такая необходимость, надевать сапоги - и метафорические, и реальные, сталкиваться с не очень веселыми и далекими от благоухающего идеализма проблемами, искать и находить выход в непростых жизненных ситуациях не за счет людей, а во их благо. Не становиться в антигосударственную позу ради самой позы, а пытаться решать реальные проблемы нашего социального бытия. В этой связи мне достаточно часто вспоминается известный славянофил Алексей Хомяков. Ему в царской крепостнической России можно было осуществлять оппозиционные демарши либо в форме традиционного дворянского ничегонеделания, либо в виде эмиграционных скептических размышлений о сути прогнившего социального явления. А он едет в деревню, надевает те же сапоги, выписывает агрономическую и прочую литературу, пытается что-то сделать не только на бумаге (что ему блестяще удалось), но и на деле (что получилось в гораздо меньшей степени). Высмеять идеализм помещиков, пытающихся привить английскую культуру земледелия в России начала XIX века, несложно. Гораздо труднее сделать на грамм реального, чтобы рано или поздно этот грамм все же перерос в увесистые килограммы и тонны.
Не нужно забывать и о том, что фактически все крупные государственные деятели были грубыми прагматиками в отношении использования интеллектуального потенциала нации. Вспомним навскидку. Петр Миронович Машеров как-то заметил, что обществоведы обходят тему влияния профсоюзов на жизнь общества. И тут же посыпались книги-диссертации с клишированными заголовками: "Белорусские профсоюзы в седьмой пятилетке" и, естественно, в восьмой, девятой и так далее. А современное американское государство в лице президента Буша? Сказано не писать душераздирающих репортажей о событиях 11 сентября - и будь добр, распишись в уголке о выполнении. Таким образом, несложно сделать основной вывод: государство всегда будет просить своих интеллектуальных граждан иногда слезать с интеллектуальных же круч, обращать сияющий взор на серую обыденность, заменяя по мере возможности кухонную оппозиционность реальными делами. Что, впрочем, вовсе не исключает появления достаточно интересных работ с интригующими названиями "Из истории белорусского дождя" или "Особенности меню белорусских мещан в девятнадцатом столетии".
Периодически у многих из нас появляется неудержимое желание взобраться
на интеллектуальные кручи. Обозреть, так сказать, окрестности, показать пальчиком в сияющую даль, побронзоветь в душе, размышляя о грядущем собрании сочинений. Хочется почувствовать себя на одном уровне если не с нобелевским лауреатом, то хотя бы с "держателем" какой-нибудь местной премии, скажем, имени градоначальника имярек. Рядом с мучительно-радостной мыслишкой "А чем я хуже?" начинает шевелиться спокойно-уверенное "Мы тоже мог„м", после чего родина получает от своего любящего сына совсем не нужные
ей уверения в преданности в форме любовно взращенных фолиантов.
Конечно, любой человек, хоть каким-нибудь боком повернутый к науке, отстаивает свое незыблемое право писать о том, что хочется. "Душа горит" - ведь это и о науке. Всегда есть желание углубиться, например, в историю дождя или в проблему меню наших предков. Ведь и в самом деле интересно: прабабушка с прадедушкой трюфели ели с картошкой или предпочитали их в компании, так сказать, с мочеными лосиными губами? Как-то довелось полистать темы курсовых и дипломных работ студентов-историков. Чего там только нет: и экзистенциальные метания Жан Поля Сартра, и некие малоизвестные персоналии, и проекты социального переустройства вроде "Города Солнца" Томмазо Кампанеллы. А того, что фактически лежит под ногами, все же явно недостаточно.
Как-то туговато у нас с презренным прагматизмом. Все больше одолевают идеальные мотивы, некие поиски, искания. Часто хочется беспричинно плакать и так же хохотать, судорожно сжимая узловатой ладошкой запотевший крестик на впалой груди. Смутный романтизм, склонность к социальной мечте, готовность каяться в любой момент и по любому поводу, колебания между идеализацией народа и упреками его же в "дикости" проявляются, например, в оппозиционной мечте о "вечной и великой" Беларуси, проливаются многими страницами идеализированных описаний прошлого страны. А любые "приземленные" контраргументы воспринимаются этими носителями "подлинной" народности как символ непонимания. Что напоминает известный рассказ Генриха Гейне о смерти Гегеля. Когда Гегель лежал на смертном одре, окруженный учениками, он промолвил: "Только один из вас меня понял". Когда же к нему наклонились возбужденные головы, Гегель с досадой промолвил: "Да и тот меня не понял".
А ведь и прагматичных (но не менее глубоких) проблем хватает. Вот недавно в Бресте провели республиканскую конференцию с вполне нашим девизом: "Государственность на Беларуси: генезис и перспективы". Собрались серьезные люди, обсудили проблемы философского, исторического характера, издали, извините за выражение, тезисы. Как результат, возникло понимание необходимости продолжения обсуждения заявленных на конференции проблем, причем не только в узком академическом кругу, но и с привлечением интеллектуальных сил властных структур, и усиления практического аспекта обсуждаемых тем.
То есть проблема достаточно ясна: жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Именно так ставил вопрос известный классик. И если бы он один! "Коль скоро Прометей похитил огонь, то должен теперь примириться с оковами и коршуном... Нельзя безнаказанно отведать от дерева бессмертия" - это Бисмарк, которого достаточно безосновательно представляют тупым пруссаком. А Уинстон Черчилль? После известного поражения Франции в столкновении с фашизмом английский премьер-министр "приголубил" генерала де Голля. Как оказалось, французский беглец был великим прагматиком и неистово отстаивал национальные интересы своей страны, прежде всего колониальные. Имея в виду именно этот аспект, Черчилль замечал: когда генерала де Голля сравнивали с Жанной д`Арк, я не видел в этом ничего странного.
Из этих немногих примеров достаточно ясно следует, что прагматизм в науке, в том числе исторической, социальной, вовсе не означает грубого социального заказа исключительно в форме выкручивания нежных профессорских рук. Прагматизм в науке предполагает уяснение того простого факта, что государство рассчитывает на понимание своих проблем со стороны ученых, более того, видит в них своих активных союзников в непростом деле становления и развития гражданского общества. Конечно, это предполагает и обратный процесс: ученый мир, в свою очередь, хочет видеть со стороны государства не просто декларации с бодрым рефреном "Поможем!", но и конкретные дела, ориентированные прежде всего на эффективное использование научных разработок и создание соответствующего (комфортного) морального климата. Есть и еще одна проблема: презренный металл. Вопрос хочется поставить в следующем аспекте: необходимо не бить по рукам вузы, академические структуры в том случае, когда есть реальные научные разработки и пусть хотя бы робкие попытки их использования в той или иной социально-производственной сфере. Имеется в виду налоговое, контролирующее давление. Ведь можно поставить тот или иной научный коллектив в рамки эксперимента с льготными условиями - естественно, в перспективе потребовав ответ на вопрос об эффективности использования целевых средств.
Думается, есть и еще одна грань проблемы. Достаточно глупо сегодня выдвигать некие навязчивые призывы, подобно бытовавшим ранее. Например, "Народ и партия едины" - то есть "государство и ученый мир - братья навек". Однако что необходимо - это возможность говорить на одном языке, патриотизм, защита национальных интересов, совместная работа на благо Отечества. Если есть такая необходимость, надевать сапоги - и метафорические, и реальные, сталкиваться с не очень веселыми и далекими от благоухающего идеализма проблемами, искать и находить выход в непростых жизненных ситуациях не за счет людей, а во их благо. Не становиться в антигосударственную позу ради самой позы, а пытаться решать реальные проблемы нашего социального бытия. В этой связи мне достаточно часто вспоминается известный славянофил Алексей Хомяков. Ему в царской крепостнической России можно было осуществлять оппозиционные демарши либо в форме традиционного дворянского ничегонеделания, либо в виде эмиграционных скептических размышлений о сути прогнившего социального явления. А он едет в деревню, надевает те же сапоги, выписывает агрономическую и прочую литературу, пытается что-то сделать не только на бумаге (что ему блестяще удалось), но и на деле (что получилось в гораздо меньшей степени). Высмеять идеализм помещиков, пытающихся привить английскую культуру земледелия в России начала XIX века, несложно. Гораздо труднее сделать на грамм реального, чтобы рано или поздно этот грамм все же перерос в увесистые килограммы и тонны.
Не нужно забывать и о том, что фактически все крупные государственные деятели были грубыми прагматиками в отношении использования интеллектуального потенциала нации. Вспомним навскидку. Петр Миронович Машеров как-то заметил, что обществоведы обходят тему влияния профсоюзов на жизнь общества. И тут же посыпались книги-диссертации с клишированными заголовками: "Белорусские профсоюзы в седьмой пятилетке" и, естественно, в восьмой, девятой и так далее. А современное американское государство в лице президента Буша? Сказано не писать душераздирающих репортажей о событиях 11 сентября - и будь добр, распишись в уголке о выполнении. Таким образом, несложно сделать основной вывод: государство всегда будет просить своих интеллектуальных граждан иногда слезать с интеллектуальных же круч, обращать сияющий взор на серую обыденность, заменяя по мере возможности кухонную оппозиционность реальными делами. Что, впрочем, вовсе не исключает появления достаточно интересных работ с интригующими названиями "Из истории белорусского дождя" или "Особенности меню белорусских мещан в девятнадцатом столетии".