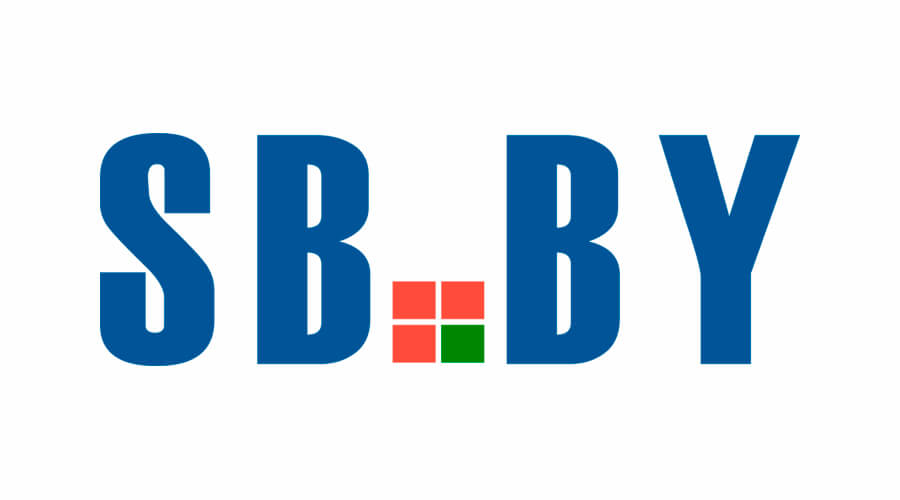Это так же естественно, как приход весны, как рождение надежды, как хмельное предчувствие неизъяснимой радости, разом нахлынувшей, как сама эта радость-печаль, выплывающая издалека-далека...
О войне написано бесчисленное количество строк — горестных, героических, скорбных. Нам чрезвычайно дороги стихи, рожденные в душе тех, кто непосредственно поднимался в атаку, замерзал в подмосковных окопах в 41-м; кто не с чьих-то слов, а на себе испытал горечь утрат боевых друзей; кто, извините, на собственной шкуре изведал всю окопную правду жестокого четырехлетья. Говорят, главная книга о Великой Отечественной все еще не написана. Может быть... если иметь в виду художественную прозу. Хотя в истории литературы и останутся навеки книги Константина Симонова, Михаила Шолохова, Бориса Васильева, нашего Василя Быкова, Бориса Полевого, других известных авторов. Но это, по верному замечанию (еще в начале 80-х) профессора истории Иллариона Игнатенко, всего лишь фрагменты большого мозаического панно, название которому — Великая Отечественная война. Быть может, настанет час, когда это панно в виде литературного шедевра явится миру как нечто целое и законченное, правдивое в своей художественной сути и исторически зрелое. Не будем забывать: Великая Отечественная война — это трагедия не только народов некогда великой страны, но и драма всего мира.
Что же касается поэзии, то здесь ситуация несколько иная. Стихи, как известно, апеллируют не столько к нашему разуму, сколько к чувствам, к сознанию и подсознанию. А эта субстанция более тонкая, хрупкая и потому глубже и более точно реагирующая на события, затрагивающие всех, кто не утратил, по меткому выражению одного литературного критика, “душевного резонатора”. Вот почему поэзия не терпит приблизительности, риторики, неточности, придуманности факта (разве можно придумать, в отличие от прозы, событие души?). И особенно это не приложимо к поэзии, затрагивающей израненные сердца миллионов людей...
Тема войны по-прежнему остается святой не только для поколения людей, впитавших в себя горести войны, но и для всех последующих. Она унаследована большинством людей едва ли не на генном уровне. И в этом смысле нам не пристало сочинительство ради сочинительства.
К сожалению, почта “Народного граммофона” изобилует стихами незрелыми, надуманными, но при этом нещадно эксплуатирующими тему Великой Отечественной войны. Говорится это не столько в назидание, сколько с целью призвать каждого, кто взял в руки перо, быть ответственным: и перед теми, кто реальность войны испытал на себе, и, конечно же, перед своей совестью. Кроме того, важно не забывать простую вещь: не все то поэзия, что зарифмовано. В этом смысле, друзья, нам всем неплохо бы внять словам Поля Верлена (строки из его стихотворения “Искусство поэзии”):
Хребет риторике сверни.
О, если б в бунте против правил
Ты рифмам совести прибавил!
Не ты — куда зайдут они?
Интересно, что перевод верленовского стихотворения сделал Борис Пастернак, творческим кредо которого и было “Искусство поэзии” Поля Верлена. Нам ли не прислушаться к великим?!.
Но вернемся к нашим авторам: граммофон ведь не для мебели, он должен звучать. Сегодня мы выносим на суд читателей по одному стихотворению двух разных авторов. Сначала Геннадий Казак, давнишний подписчик “Народной газеты”, неравнодушный к сочинительству и вообще к проблемам современной общественной жизни:
Я часто думаю,
Неся свой тяжкий груз:
А что я сделал, и на что гожусь?
И смог ли б я
Без дрожи и без страха
В малиновой, как зарево, рубахе
Пойти на плаху
За волю, за народ, за Беларусь?
Которая без ясной цели
Тащила окровавленные цепи,
Не ведая в своей нужде и боли,
Что есть иная жизнь, иная доля...
Я часто думаю:
Настало время жить!
Но надо бы себя еще спросить:
Куда идем, пошто живем?..
Ведь не свистят горячие нагайки,
И не хрипят арийские овчарки,
И мессеры мой город не бомбят,
И вдосталь хлеба...
...Но все же что-то гложет нас
Порой ночною.
Я часто думаю о вас,
О тех, кто не вернулся
с поля боя...
И еще одно стихотворение, все на ту же тему... Его прислал в “Граммофон” Евгений Казюкин.
Прабач нам, Мiроныч...
Цi майскае ранне, цi верасня
шэрань,
Як толькi праспект ажыве,
Здаецца мне, побач праходзiць
Машэраў
I цiха пытае мяне:
— Ну як вы жывеце, вятры куды
веюць,
I як вашы дзецi, i што вы ясцё?
Ды нешта падступiць, аж вусны
нямеюць,
Прабач нам, Мiроныч, прабач нам
за ўсё!
Высокая нiва i збожжа паспела,
I сонейка, як на заказ.
Насуперак часу здалёку Машэраў
Глядзiць i пытае ў нас:
— Пра што вашы мары, i што сёння
сеюць,
I што вы нашчадкам сваiм
аддасцё?
Ды нешта падступiць, аж голас
нямее,
— Прабач нам, Мiроныч, прабач
нам за ўсё.
Нi зданям, нi прывiдам верыць
не веру,
Стаю на прыпынку ў метро,—
А з цемры тунэля выходзiць
Машэраў,
I цiха пытае Пятро:
— Ну як наша моладзь: цi помнiць,
цi верыць,
Сiвых ветэранаў якое жыццё?
Ды нешта падступiць, аж голас
нямее,
— Прабач нам, Мiроныч, прабач
нам за ўсё...
Ну вот, друзья, кажется, мы и послушали последнюю на сегодня поэтическую пластинку “Народного граммофона”. Следующая встреча с поэзией от народа — через две недели.