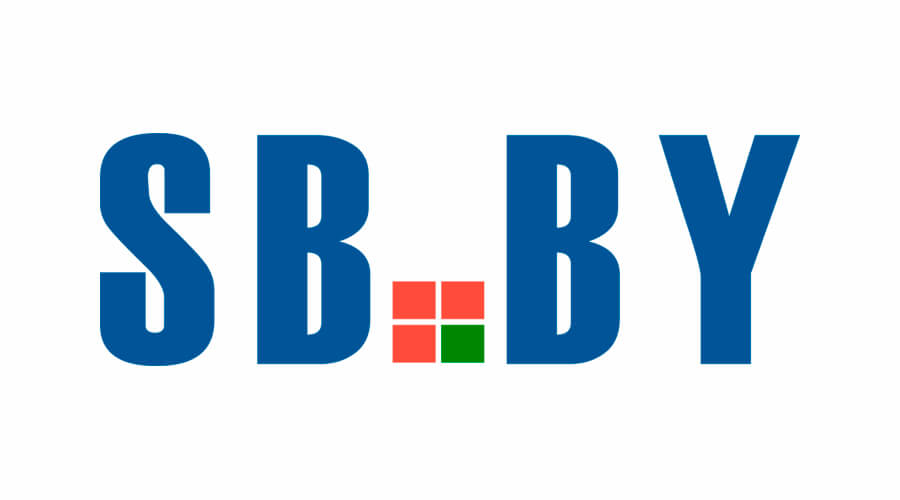Мир един, - вещают современные пророки и пророчицы, призывая поклоняться идолу глобализации с такой же истовостью, с какой советский человек бил верноподданнические поклоны ускорению и демократизации. А свет в их неземных очах при этом сильно напоминает лучи навеки угасшего Прожектора перестройки.
Многие прежние творения великих и малых утопистов потихоньку сдаются в архив. Но так как свято место пусто не бывает, все больше и чаще говорят о глобализации. Настолько часто, что так и хочется воскликнуть, перефразируя известный лозунг: С глобализацией - на вечные времена!
Впрочем, хватит иронии. Предмет разговора достаточно серьезен, и его смысл в газетных рамках можно свести к двум основным вопросам: что на деле означает глобализация и есть ли у такого рода политической философии альтернативы?
На первый вопрос ответить и легко, и трудно. Легко, ибо всем понятно, что слово глобализация в современном политическом лексиконе во многом тождественно понятию американизация. Трудно - так как здесь возникает закономерный вопрос: а что, в глобализации по-американски есть изъяны, которые вдруг заметил просвещенный белорусский ум? Что, США не продемонстрировали преимуществ своей экономической модели, не создали за 200 лет уникальную цивилизацию, добившись массы сопутствующих успехов?
Просвещенный ум в ответ на эти вопросы почешет соломенный славянский затылок и скажет: так ведь кто же против очевидных вещей спорить будет? Предмет дискуссии вовсе не в том, что где-то хорошо, а тебя по этому поводу жаба душит. Суть проблемы в том, что сегодня глобализация как политическая философия предусматривает агрессивную наступательную экстраполяцию ценностей одной конкретной страны, одного национального мировидения на весь остальной мир. Для сильного стали доступны самые укромные уголки планеты - это и есть глобус под глыбой глобализации.
Попробуем развернуть этот тезис. Когда речь идет о едином экономическом, культурном и иных пространствах - это несомненные компоненты глобализации. Если же разговор ведется о навязывании странам, регионам одной модели развития - то термин здесь надо подбирать другой. Глобализация - это когда мы ведем речь, в частности, о политической многополюсности. А вот американизация в этом контексте означает пропаганду однополярного мира с Монбланом в виде Конституции отцов-основателей. Глобализация далее предусматривает единое информационное пространство, расцвет национальных культур при понимании общности, единства ряда общечеловеческих констант. Американизация же означает навязывание готовых стандартов образа жизни.
Иногда в этой связи можно услышать голоса: А что в этом плохого? Пусть будет американизация - лишь бы людям жилось лучше. Дело, однако, в том, что история не знает прецедента, связанного с одновременным расцветом наций.
Но важно подчеркнуть в русле данного разговора иную мысль. Дело-то все в том, что в ряде случаев мы сами безвольно глобализируемся-американизируемся без каких бы то ни было усилий со стороны заокеанского колосса. В силу, вероятно, нашей памярко›насцi, мягкости, такой, знаете ли, славянской расслабленности, сильно отдающей пуховиками и сильно напоминающей сон симпатичнейшего Ильи Ильича Обломова.
К слову, достаточно бессмысленно бичевать язвы американского образа жизни: каждый должен иметь возможность спасать душу своим собственным путем. Но возникает все тот же вопрос: а почему образ жизни должен быть именно американским? Почему не предпочесть, например, милую французскую легкость и все, что с этим связано: стакан красного вина три раза в день, созерцание набережной Сены, эстетическое преклонение перед Стогами сена Моне, Голубыми танцовщицами Дега, полотнами Ван Гога? Все же не родимые осины, от которых либо беспросветная тоска, либо самогонка, а чаще то и другое вместе.
Вот на этой, не самой веселой, ноте и следует перейти к альтернативной глобализации по-американски. Главное - это то, что такого рода альтернативы имеются, причем в форме жестких оппозиционных контрбалансов. Так, например, официальная линия руководства Франции была изложена на представительной конференции, организованной Французским институтом международных отношений. Президент Жак Ширак выступил там с докладом на тему Франция в многополярном мире, а министр иностранных дел Ю.Ведрин - Мир на рубеже века. Ширак, как это видно уже из названия его речи, выступил именно за установление многополярного, а не вращающегося вокруг США мира. Глава французского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что его страна не может согласиться ни на политически однополярный мир, ни на мир единообразный в культурном отношении. Соответствующие заявления не раз звучали и в выступлениях Александра Лукашенко и Президента России.
Другими словами, Европа, за редким исключением, не только осознает опасность глобализации в форме однополюсности, но и принимает соответствующие меры. Усиливающаяся интеграция в рамках Европейского союза - убедительное подтверждение данному тезису. Точно так же интеграционные процессы на оси Минск - Москва есть и формирование своего полюса безопасности, соответствующего контрбаланса.
И все-таки особенно важным контраргументом глобализации в ее имперской форме может быть только расцвет собственной нации на основе национальных традиций, национальной истории. Ведь то затухающая, то набирающая силы дискуссия о сути национальной идеи совсем не абстрактная идеологема. Это наша собственная жизнь, поскольку без осознания самих себя нет нации, нет этноса.
Нам, к сожалению, не помог (да и не мог помочь) геополитический романтизм начала 90-х годов. Это когда и европейское одеяло на себя тянули, и исторические корни у ацтеков и майя искали, и над чысцiн„й мовы сладко рыдали. Нам вряд ли поможет и столь распространенная ныне достоевщина в форме национального самокопания: кто сам себя укусит побольнее, кто погаже сам о себе выскажется. В этой ситуации спасителен только национальный прагматизм: правда, в том числе и о самих себе; политика возможного, а не желательного; уход от изобретения политических дефиниций к реальному политическому действию. Но это уже иная тема.
Глобус под глыбой глобализации
Мир един, - вещают современные пророки и пророчицы, призывая поклоняться идолу глобализации с такой же истовостью, с какой советский человек бил верноподданнические поклоны ускорению и демократизации.