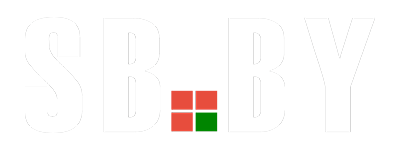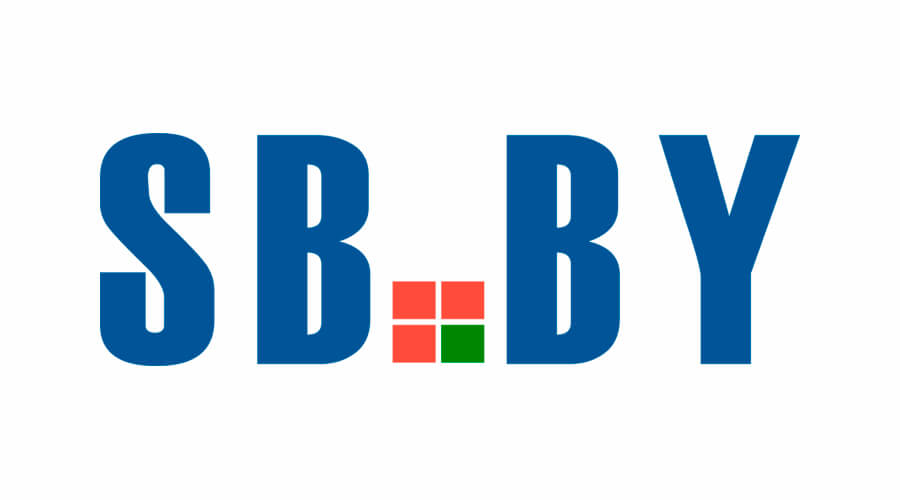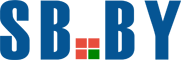Осенью минувшего года я впервые пришел в Музей истории и культуры евреев Беларуси. Не знаю, что меня потянуло туда... Переступил порог зала, сделал несколько шагов и остановился как вкопанный: увидел среди экспонатов желтую лату узницы Минского гетто. У меня подкосились ноги — хорошо, что рядом стоял стул. Сколько просидел — не помню: 20 минут, час... Знакомиться с музеем уже не было сил. Только в троллейбусе понял, что по моим щекам текут слезы. Перед глазами все время стояла желтая лата, но уже не эта, из музея, а другая. Вот ведь прошло 65 лет, а сердце помнит... Это было в деревне Есенавица Волковысского района.
Осенью минувшего года я впервые пришел в Музей истории и культуры евреев Беларуси. Не знаю, что меня потянуло туда... Переступил порог зала, сделал несколько шагов и остановился как вкопанный: увидел среди экспонатов желтую лату узницы Минского гетто. У меня подкосились ноги — хорошо, что рядом стоял стул. Сколько просидел — не помню: 20 минут, час... Знакомиться с музеем уже не было сил. Только в троллейбусе понял, что по моим щекам текут слезы. Перед глазами все время стояла желтая лата, но уже не эта, из музея, а другая. Вот ведь прошло 65 лет, а сердце помнит... Это было в деревне Есенавица Волковысского района.
...Мы завтракаем. Мама сняла с припечка и поставила на стол старый, прокопченный глиняный горшок, оплетенный, чтобы не развалился по трещинам, тонкой медной проволокой и наполненный доверху смаженкой. Это картошка в «мундирах», очищенная, нарезанная дольками, перемешанная с льняным маслом, поджаренным луком, сметаной, деревенскими пряностями, томившаяся всю ночь в печке. Смаженку мама готовила по воскресеньям.
Я уселся на свое детское место: круглую деревянную колодочку, поставленную на длинную лавку, которая одним торцом упирается в стол, а другим — в стенку. С колодочки мне, малышу, легче дотянуться до стола.
Мама открыла горшок. Из него потянуло невероятно вкусным запахом. Мне так хотелось есть, что я закричал!
Миска на столе. Я стал руками заталкивать в рот ароматные румяные дольки картошки. Мама протянула мне деревянную ложку. Надо еще покормить Янека, моего маленького братишку. Он — в стойке, стучит по ней кулачком, что–то лопочет и от нетерпения «танцует».
В это время в дом без стука вошла девочка. Ей на вид лет 10 — 11, впрочем, я еще мал, чтобы определять возраст — о нем уже позже мне сказала мама.
Голова девочки закутана в какой–то обрывок одеяла. У нее на плече — холщовый мешок. Но не это привлекло мое детское внимание, а желтая заплата (слова «лата» я еще не знал) величиной с блюдце на спинке ее легкого серого пальтишка.
Девочка что–то сказала маме. Мама помогла ей развязать «платок», взяла с припечка приготовленную для себя и Янека миску со смаженкой, разделила ее на две части и пригласила девочку к столу.
Все это время я не сводил глаз с желтой заплаты–блюдечка. Мне непонятно, почему на спине у девочки эта странная желтая тряпица. Ведь ни у кого из детей нашей деревни я ничего подобного не видел.
Девочка жадно ела, что–то рассказывала маме и плакала. Начал плакать и Янек, который уже сидел на маминых коленях.
Мама с Янеком съели свою смаженку, а я все пытался заглянуть за спину девочки, которая продолжала есть и что–то рассказывать, глотая слезы.
Тут в дверь постучала соседка Гандя. Мы услышали ее голос:
— Маня, немцы! Iдуць у наш канец, ужо ў Яцкевiча.
От Яцкевича до нашего двора четыре дома.
Мама открыла дверь и объяснила соседке:
— У нашай хаце яўрэйская дзяўчынка... Яна прыйшла з яўрэйскага гетта. Ходзiць па дварах i жабруе.
Услышав про немцев, девочка встала из–за стола и, утирая слезы, подошла к своему мешку, который оставила у порога. На нем лежал ее «платок». Она принялась укутывать голову.
— Куды? Пад кулi? Не пушчу! — резко бросила мама.
Она поставила Янека в стойку, отняла у девочки «платок» и положила его на прежнее место.
— Не бойся, канчай есцi, ты ж галодная! Штосьцi прыдумаем. Бог дапаможа...
Мама подошла к тому углу печи, где стояли кочерги и ухваты. Взяв кочергу, сказала девочке:
— Ну, хутчэй еш, канчай хутчэй, — и подошла к окну кухни, которое выходило в сторону хат Куликовой и Яцкевича. Отодвинула «фиранку» и некоторое время смотрела в окно.
Девочка доела, встала из–за стола и поблагодарила маму за угощение.
— Сядзь, пасядзi трошкi, — это мама ей. — Нiчога i нiкога не бойся, усё будзе добра, усё... Цябе нiхто не знойдзе. Перасядзiш. Гэтыя вырадкi ў печ не палезуць. Бяры свае «клункi» i хуценька лезь.
Девочка взяла мешок, «платок» и нехотя пошла к печи. Остановилась в нерешительности.
Мама отняла у нее пожитки и, забросив их в печь, сказала:
— А цяпер сама залазь туды, за «клункамi»!
Она помогла девочке взобраться на припечек и залезть в печь. Потом спросила:
— Ну як, добра? Уладкуйся так, каб потым не варушылася, пакуль ёсць час!
После этого она затолкала в печь большой чугун картошки для свиней так, чтобы он закрыл вход, и прикрыла его заслонкой.
Я не понимал, к чему все это, тихонько сидел в углу на своей колодочке. Но когда мама взяла из припечка несколько лучин и зажгла их, я сразу вспомнил сказку, которую вечерами рассказывала бабушка, — о том, как злая колдунья варила в чугуне «непаслухмяных дзяцей». Я закричал: «Не надо!» — и стал плакать; заревел и Янек, глядя на меня. Мама строго сказала:
— Супакойся сам i супакой дзiця.
Сама же достала из–под печи несколько поленьев и положила их на огонь. Дым клубами повалил в «каптур» и в трубу. На огонь мама поставила треногу, а на нее горшок с водой и сказала:
— Вось i ўсё, дзякуй Богу.
Облегченно вздохнув, она присела на табурет... Внезапно подхватилась и бросилась к окну:
— Яны ўжо ў Врублеўскiх, трэба выйсцi з хаты!
Она помогла мне одеться, после этого одела Янека в старое мое пальтишко, из которого я вырос. На ножки ему натянула шерстяные вязаные чулочки. Мы вышли во двор и увидели, что дверь нашего хлева открыта настежь, а рядом топчется немецкий солдат. Тут во двор вошли еще двое в солдатской форме. Про того, который топтался у сарая, мама сказала:
— Ах, божухна, ён жа п’яны, яшчэ хлеў падпалiць, — и взяв меня за руку, направилась к хлеву. В это время один из подошедших немцев, видно, старший, что–то рявкнул пьяному, да так громко, что его голос напомнил мне лай злой соседкой собаки — Куликовых. Другой вынул большой нож и направился в хлев.
Я обхватил маму за подол платья и прижался к ней. На руках у нее был Янек, который опять начал капризничать.
— Не бойся, стой цiха, — сказала мне мама и стала успокаивать братишку.
Тот солдат, которого мы приняли за старшего, подошел к маме и пощелкал перед носом Янека, а пальцем другой руки постучал по своему перстню и, поманив братишку к себе, взял его на руки. В это время в хлеве предсмертным душераздирающим визгом на весь двор заверещал наш подсвинок.
И тут случилось то, что должно было случиться. От испуга Янек обмочил не только свои чулочки, но и мундир немца. Его сослуживец громко заржал. К нему присоединился другой — он как раз вышел из хлева, стирая кровь с ножа.
Мама, предчувствуя неладное, попыталась забрать Янека. Старший фриц оттолкнул ее, схватил братишку за шиворот и, что–то прокричав пьяному, подбросил Янека ему на ногу. Пьяный солдат кованым ботинком с разбегу поддел малютку — тот с криком перелетел, как футбольный мяч, через забор в огород и упал в капусту.
Я был так напуган, что не мог плакать — лишь икал и дрожал. Немцы убрались со двора, прихватив подсвинка...
Мама унесла братишку, который уже не плакал, а только стонал, в дом, уложила на печь и укутала тулупом... И в этот момент вспомнила о девочке. Сняла с треноги чугунок с водой, отгребла в сторону жар от сгоревших поленьев, отодвинула заслонку, большой чугун с картошкой и помогла выбраться девочке наружу. Та стала отпаивать меня водой, чтобы прошла икота. Я же смотрел на нее и никак не мог понять, как она осталась жива...
В этот же день девочка ушла. Больше я ее никогда не видел.
Месяца через два Янек умер. Мама говорила, что ему «отбили нутро», и прятала от меня заплаканные глаза. При этом успокаивала — говорила, что Янек маленький, еще не нагрешил, и Бог забрал его к себе, чтобы сделать ангелочком. Я смотрел на ангелочков, изображенных на иконе, и никак не мог понять, как у братика появятся крылышки и будут ли они настолько большими и сильными, чтобы он смог прилететь к нам. А если сможет, то когда прилетит? Я не раз приставал к маме с этими вопросами. Наконец она сказала, что ангелочки с того света не прилетают, потому что далеко, но они находятся там рядом с Богом, чтобы быть перед ним нашими заступниками. И мы должны радоваться, что такие заступники у нас есть. И все–таки я верил, что однажды Янек прилетит, и собирал для него подарки: самодельные игрушки, кусочки сахара, которым меня иногда угощали соседи.
А события эти не прошли для меня даром. По ночам мне снились кошмары, я вскакивал, кричал и плакал: мне снилась собака Куликовых — большая, черная и с головой фрица. Она все пыталась меня укусить. Бабушка кадила вокруг меня дымом из чертополоха и еще каких–то лекарственных трав. Из свежеиспеченного хлеба она делала «галки» и перед сном под молитву катала ими по моему животу и лицу. Потом скатывала «галки» в комок и бросала их собаке Куликовых.
Со временем кошмары (видно, Янек все–таки заступился за меня перед Богом) заснули в моей памяти. Так я думал. Пока не увидел в музее желтую лату...
Франц НЕДВЕЦКИЙ.