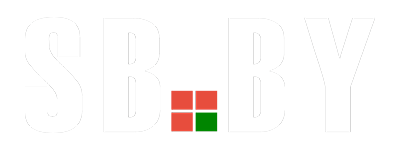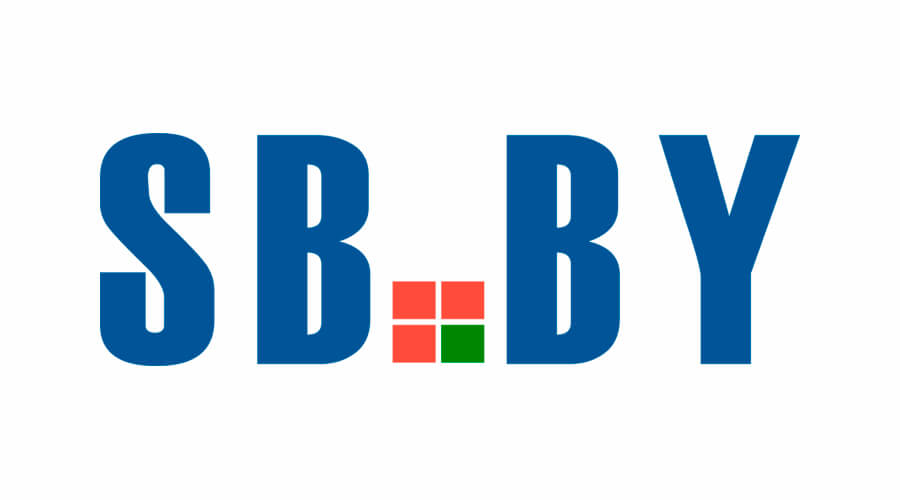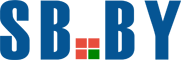Первые свои художественные произведения он написал в тюрьме, куда попал как диссидент–антисоветчик. Так и назвал их: «Стихи, написанные в тюрьме, где их многие пишут».
Первые свои художественные произведения он написал в тюрьме, куда попал как диссидент–антисоветчик. Так и назвал их: «Стихи, написанные в тюрьме, где их многие пишут».После освобождения начал писать прозу.
Сегодня главный редактор журнала «Москва» писатель Леонид Бородин — один из самых заметных литераторов России, его произведения переведены почти на все языки мира. На прошедшей 9 — 12 февраля XIII Минской международной книжной выставке–ярмарке Леонид Бородин был в делегации российских писателей. К сожалению, книги самого Леонида Ивановича на выставке искать было напрасно... Хотя в изобилии продавались детективы Александры Марининой и Полины Дашковой. На «круглых столах», проходивших прямо в суете ярмарки, Леонид Иванович высказывался ярко и остро. Случайные прохожие задерживались, удивленные долетевшими словами, и опять спешили к книжным стендам. И мне было искренне жаль, что дискуссии не были организованы так, чтобы за действительно круглым столом — а не односторонне–прямоугольным — собрались литераторы наших обеих стран. Но, во всяком случае, читателям «СБ» предоставляется возможность поприсутствовать при нашем разговоре с Леонидом Бородиным.
— Леонид Иванович, у меня все больше складывается впечатление, что сегодня мало быть писателем, чтобы тебя знали... Мало написать роман, надо устроить вокруг него скандал...
— Да, ранее такого не было, но и система была другая. Мы еще до конца не осознали последствий рассечения по живому связей и структур. Страшная потеря для нас, россиян, — потеря централизованного книгораспространения. Например, я, чтобы журнал «Москва» выживал, издаю книги. И мы распространяем их сами, как можем. В основном по Москве. Потому что редакция бедная, журнал бедный, наверное, самый бедный из всех литературных журналов, поскольку мы ни с одной политической партией, ни с какими олигархами и банками не связаны. Живем только на свои средства. Часть помещения сдаем в аренду, у нас свой маленький магазинчик... Но для распространения дальше Москвы у нас нет никаких возможностей. Мы пытались пересылать с проводниками поездов, создавать «опорные точки» в городах. Но кто даром будет что–то делать? А шоу — это деньги. Мы пришли в капитализм, туда, где требуется реклама. Поэтому кто имеет деньги на рекламу, тот и живет.
— Но ведь при этом смещается иерархия ценностей, разница между высоким и массовым искусством. Вот с вами приехали Маринина и Дашкова...
— Точнее, я приехал с ними. К ним в придачу. Что ж поделаешь... Меня попросили хорошие знакомые. Если б это были люди мне менее знакомые, я, зная заведомо, что никакого толку для меня лично не будет, тем более книг моих не привезли ни одной, отказался бы. Но все равно какая–то польза от моего участия есть, какой–то КПД. Вы знаете, у паровоза КПД — всего пять процентов.
— Но ведь вас называют последним несломленным романтиком, а романтикам свойственно довольствоваться нематериальной духовной пользой. Кстати, вы высказались о том, что молодое литературное поколение отличает безыдейность... С другой стороны, идейность — это именно то, что еще недавно, по мнению некоторых, тормозило развитие литературы, ограничивало ее свободу.
— История развивалась благодаря свободе. Но сохранилась жизнь благодаря системе табу, догматов, которые выработало человечество за время своего существования. Система социализма по степени влияния равна религии, и когда она ломалась, то ломалось все. Поколение, которое родилось во время смуты, осталось без догматов, оно понимает только одно: можно. Нет осознания, что чего–то нельзя. А это и есть состояние безыдейности. Впрочем, дети детям рознь. Как сказано, «малым стадом спасется»... Русскому человеку во время смуты XVII века тоже казалось, что Россия кончена. Казаки все громят, поляки, шведы... Не было ни одной знатной боярской фамилии, которая не исподличалась бы. На поклонение к «тушинскому вору» в числе боярской делегации отправился отец будущего русского царя и из его рук получил митрополичий сан. И вдруг что–то происходит, создается ополчение, казаки, которые только что все громили, становятся чуть ли не главной армией возрождения России... И на собор, где выбирается царь, приглашаются все те, кто еще вчера друг на друга шел. Есть в России инстинкт регенерации. Это — точка опоры моего оптимизма. Государство — условие существования народа, как вода — условие существования рыбы.
— В вашем произведении «Женщина в море» герой, идеалист, которого называют то марсианином, то венерианцем, на протяжении всего романа занимается тем, что прощает... Прощает и понимает... И в общем–то приходит к пониманию и прощению преступников. Вы за всепрощение?
— Мой герой не прощает. Он жалеет. Это сочувствие, это другой оттенок. Преступников можно жалеть. Вспомните «Капитанскую дочку» Пушкина. Гринев воюет против Пугачева, убивает бунтовщиков. Попадись ему Пугачев на поле боя — он бы и его рубанул саблей. И вот последние строки романа: мол, все у нас устроилось хорошо... Поженились с Марьей Ивановной... Одно омрачило нашу жизнь: казнь Пугачева. Это — ужас перед казнью. Государство берет на себя грех убийства. Гринев понимает, что иначе нельзя, но он жалеет казненного. Так что в «Женщине в море» нет всепрощения. Другое дело, что это было написано сразу после освобождения из лагеря. У меня два срока... Дважды я сидел. Надзиратели были разные. Следователи были разные. Представьте себе, если бы я начал «бухгалтерский подсчет», кому я должен вернуть долг... Тот влепил срок. Тот наврал. Тот подставил... Если бы я стал сводить счеты... Такая возможность, в принципе, была, в той либо иной форме. Я мог написать, например, статью о своем последнем следователе, который сляпал мне дело совершенно из ничего. Ему дал это задание человек, который был правой рукой Андропова. И вот я встречаюсь с этим человеком. Я плаваю с ним в лодке. Я пытаюсь понять его психологию. Как умудрились органы, которые охотились за нами, бедными диссидентами, которые никогда никому не были опасны, просмотреть все те процессы, которые уже созрели в стране? Я пытаюсь получить у него ответ, сознает ли он, что они никогда не были органами государства, а всегда были только партийными органами? И у нас разговор идет совершенно дружеский. Человека надо уметь понять. Может быть, и не простить. Так я, например, не прощаю своего следователя — он уже покойный, царствие ему небесное. Я не прощаю ему того, что он сделал, но я его понимаю. Ни в одном моем произведении вы не увидите у меня злобы. Нигде. Это не значит, что ее нет в душе, что я не просыпаюсь по ночам и мне через ночь не снятся тюрьмы... Но это мой способ понимания мира. И я считаю, что он правильный. У меня существует одна–единственная маленькая повесть о лагере — «Правила игры». Больше — ничего. По моим книгам читатель может и не предположить, что я вообще сидел.
— Вообще–то считается, что жизненный опыт с тяжелыми испытаниями писателю необходим. Один мой знакомый поэт так поучает начинающих: «Тебе одного еще не хватает: чтобы мордой об асфальт. Тогда и в стихах жизнь появится». Сетуют, что нынешнее молодое поколение приходит в литературу от бытийного излишества, они благополучны... С другой стороны, слова артиста Михаила Чехова: «Чтобы сыграть бифштекс, не обязательно быть зажаренным».
— Ну, скажем, не все они благополучны... У меня до 50 процентов авторов — провинциалы, и из этих 50 большинство — люди бедные. С другой стороны, я не знаю драматических эпизодов из жизни Тютчева. Тайный статский советник, генерал, дипломат... Полжизни в Германии... Две жены–немки... И настоящий русский национальный поэт. Наверное, у него были свои проблемы, но трагедийности в его судьбе я не вижу. Полонский — тоже генерал, тайный советник, причем советник по делам иностранной цензуры. У нас любят преувеличивать... Хотя известно, что Сервантес написал «Дон Кихота» в тюрьме, Достоевский прошел через каторгу... Но Тургенев — ни через что подобное не прошел. Другое дело — способность проникать в чужое горе. Чувствовать чужое горе, чужую беду. Без этого получаются писатели–вертихвосты. Прекрасно владеют стилем, могут делать замысловатые сюжеты, но там не будет души.
— Что вы знаете о том, что происходит сейчас в белорусской литературе?
— Ничего. А ведь Москва была центром переводов, центром рекламы... Но я считаю, что в большой степени это зависит от Беларуси, от ее инициативы. Трудности теперь везде. Вот мы приехали в Польшу. У меня есть повесть «Царица смуты», о Марине Мнишек. Мария Стюарт в сравнении с Мариной Мнишек — просто обычная бабенка, которая протанцевала два царства. Я мечтал экранизировать эту повесть и в главной роли видел только одну актрису — Джуди Фостер. Так польская писательская организация не смогла заплатить переводчику этой повести. Не то что мне — переводчику не нашли денег! С другой стороны, очень известные писатели, которым деньги не нужны, считают престижным напечататься в журнале «Москва». Ведь хоть и полупогибла у нас литературная критика, тем не менее она все еще реагирует на публикации «толстых журналов». Поток литературы громадный. И все же если кто–то принесет талантливое произведение в любом жанре, мы можем поставить его сразу в номер.
— Однако не похоже, чтобы в вашем журнале печатали, скажем, фэнтези...
— Фэнтези действительно не совсем подходит нашему изданию. Это заимствованное. Оригинальных фэнтези я не помню. Молодой человек хотел бы написать о реальной жизни, но он боится впасть в политическую банальность. И он уходит в фантазию. Да и маститые писатели также боятся трогать современность, потому что понимают, что они спрыгнут с плоскости литературы в публицистическое ощущение. Отсюда — культ детективов, отсюда — успех Улицкой, Донцовой и прочих.
— А вы Донцову и Улицкую воспринимаете в равных «весовых категориях»?
— Практически да. Хотя Улицкая в Москве считается повыше. А Донцова — это полное пустословие. Надо, чтобы объем был сто страниц... Вот и получается «наваристость»: «Негодяй ворвался, занес нож... Тут я вспомнила, как пять лет назад мы с Валерой плыли на лодке...» Это читать просто смешно.
— А «литературных негров» для написания подобных текстов нанимают в Беларуси...
— Не только в Беларуси. Хватает их и в России. Я знаю несколько талантливых начинающих прозаиков, которые ушли в этот бизнес. Причем они просто соревнуются друг с другом в дерзости, списывая главами друг у друга, у классиков... Пишут и хохочут. Все, конечно, зависит от системы отсчета. По–иному можно было организовать и нынешнее мероприятие. Привести писателей с книгами, с литературным критиком, который рассказал бы о каждом. И белорусский читатель заинтересовался бы. Но это сложно. Гораздо легче вот привезти Донцову...