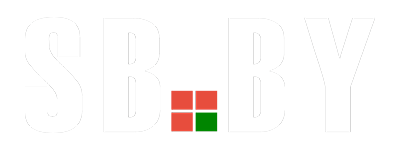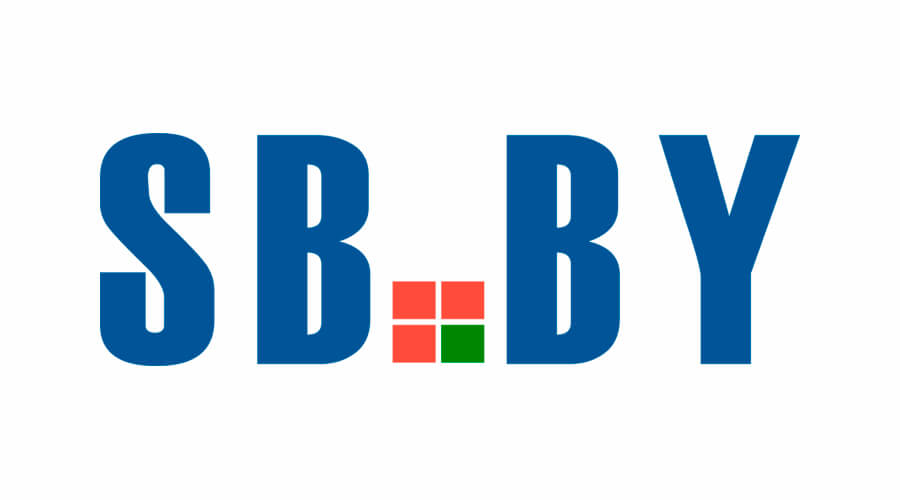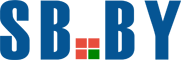Владимир Прокопцов — директор Национального художественного музея Беларуси. И одновременно художник. Именно в такой последовательности его следует позиционировать. Существует много противоположных мнений о нем. Он и сильный, и слабый, и скромный, и где–то нарцисс. Отчасти амбициозный и самолюбивый, но все же и готовый поступиться чем–то ради цели. И «упарты», и осторожный, и хитрец! Умеет доводить дело до конца, будучи одновременно предусмотрительным и наивным. Поговорив с разными людьми, я поняла, что в такой пестрой смеси основных черт характера будущего собеседника я для себя так и не открою — все перемешалось, как на палитре импрессиониста. В общем, поди разберись, остается только руками разводить.
Любопытный диалог в одном из министерств:
— Даже будучи директором организации неординарной, не стоит забывать: ты — чиновник. А Владимир Иванович иногда забывает, — сказало мне в Министерстве культуры лицо, пожелавшее остаться неизвестным. — И это при том, что он–то чиновник со стажем. Правда, никогда не считался типичным кабинетчиком.
— А кабинетчик — кто такой?
— Тот, кто не выпадает из команды.
Мой информатор откинулся в кресле, а я подалась вперед, понизив голос на полтона, уточнила:
— Он выпадает? Имеете в виду богемную внешность?
— Нет, способ существования. Он хочет и в кабинете царить, и картины выставлять.
— Это плохо?
— Ну... как вам сказать?..
А художники вот что сказали:
— Его нельзя назвать полноправным членом и нашей братии. Много суетится. Нам это несвойственно.
— Но он же директор!
— Ну да. В этом качестве Прокопцов многих устраивает. Кстати, есть в нем некое крестьянское чутье, природное чувство самосохранения и умение лавировать.
— Это хорошо?
— Да как вам сказать?..
Попробуйте–ка теперь угадать: Прокопцов — прямой потомок крестьян или интеллигент в пятом колене? Пытаясь догадаться, подошла я к Владимиру Ивановичу, который ждал меня на ступеньках «Ленинки». Высокий, импозантный, с длинными локонами седоватых кудрей. Зашли в здание. Там на первом этаже персональная выставка художника Прокопцова. О чиновнике Прокопцове пока молчу. Смотрим картины. На одной из них автор и муза, качаясь на луне в небе над Витебском, подняли бокалы с красным вином.
— Если не секрет, с кого писали музу?
— Это обобщенный образ. А знаете, почему Витебск? Я учился там, где преподавал Шагал. Кстати, это обстоятельство накладывало отпечаток: все студенты считали себя мастерами кисти.
— Да, сюжет шагаловский: небо, ратуша и влюбленные парят... Вы тоже считали себя юным мастером?
— Конечно. Но в отличие от многих, я не остался в этом убеждении. Дистанцировался, если можно так сказать. А эта картина — просто дань Витебску... Захотелось вернуть себя в ту эпоху, но в нынешнем обличье — с этой моей прической. — Владимир Иванович тряхнул роскошной шевелюрой и широко шагнул к следующему полотну.
— А интересно, что критика говорит о ваших работах? Искусствоведы высказывают свое мнение?
— Да нет, критика уже значительно менее востребована. Пришло время «заказа» — можно «купить» искусствоведа, который выдаст нормальную статью, какую хочешь. Какой тогда в этом смысл?
— А раньше если и был заказчик, то один?
— Зато теперь отсутствие социального заказа привело к тому, что тематические картины практически отсутствуют. Забывается форма, основа. Все перемешано в нашем доме искусства, нет четкой градации: искусство для салона, искусство профессиональное. Плохо то, что оно теперь и государством не востребовано.
— А два–три–пять столетий назад было востребовано?
— Тогда были меценаты и покупатель. Сегодня покупателю нужны пейзажики. Многие вообще предпочитают получить в подарок кофеварку, а не картину. Поэтому никто серьезные работы и не заказывает. А писать без гарантий не каждый может.
— Что же останется в музеях от нашего времени? В изобразительном искусстве не будет пробела? Одни пейзажи...
— Да нет, конечно. Вот была выставка наших современных художников в Париже, в театре Кардена.
— Так это в Париже.
— У нас в музее есть и современные белорусские художники. Это, как правило, выставки к юбилеям мэтров. Но было исключение и для молодых — Николая и Марины Исаенков, просто «форточка» появилась. Но вообще мы этим не занимаемся. Музей — не галерея, хотя для патриархов выкраиваем время между выставками. Это все–таки проверенный золотой фонд.
— Назовите несколько имен «проверенных»?
— Савицкий, допустим. Громыко, Поплавские, Стельмашонок...
— А кто молодые?
— Начиная со студентов, заканчивая — 40 с небольшим. Я даже себя считаю молодым.
— Это не очень лестно: в 40 с небольшим быть молодой творческой единицей. Мне кажется, поздновато. Говорят, есть еще разделение на художников не по возрасту: на «свядомых» (не в политическом смысле, а в национальном) и «космополитов» — тех, кто работает и продается за рубежом. Эти две группы друг друга не любят. А вам между ними нелегко.
— Кто относится к «космополитам»? Чтобы я сориентировался...
— Я условно так назвала — это каждый, кто уезжает ради хлеба насущного. Хотят они того или нет, в работах уже не будет национальных черт — так говорят о них «свядомыя».
— Каждый художник — индивидуалист: считает себя гением, сидит один, творит и думает о высоком. Я тут комментировать не возьмусь.
— А вы о чем чаще думаете: о своих картинах или о бумагах в кабинете?
— О втором, конечно. Как считаете, почему я сделал выставку не в Музее современного искусства, а здесь?
— Чтобы вас не заклевали: скажут, использовал свое положение.
— Да. Поэтому — библиотека. А еще потому, что я не отношу себя к гильдии художников. Творю в свободное от работы время. Работа — главное.
— Одна моя знакомая, которая имеет обыкновение прогуливаться в 6 утра, тем не менее видела вас, идущим в такую рань в мастерскую.
— Люблю: встал рано, город спит... А в пятницу я выхожу из музея в 7 вечера, нагружаю в гастрономе большущий пакет продуктов, иду в мастерскую, закрываюсь там, выбрасываю ключ через окно на улицу. Потом в субботу рано утром кофе попью, поработаю... потом обедаю, работаю...
— А ключ так и валяется под окном?
— Его в воскресенье поздно вечером случайная прохожая находит и выпускает меня.
— Красиво звучит, но неправдоподобно.
— Нет, но я действительно себя закрываю на ключ! — Прокопцов опять поправил волосы и элегантно переместился к следующей своей работе. Вот это — последнее. Называется «Вытокi». Имеются в виду «вытокi» истории, духовности, культуры.
На картине — автор и полуразрушенная башня.
— Это конкретная башня или тоже обобщенная?
— Условная.
— Но это руины? Скажите, почему в Беларуси так сложно восстанавливать памятники архитектуры? Давайте подмешаем в ваш ответ немного чиновника и учтем, что одним из ваших филиалов являются развалины замка в Гольшанах.
— Как чиновник я понимаю, что в ближайшие 20 лет Гольшаны не отреставрировать. Слишком большой объем финансирования.
— Лет 5 назад там был выполнен объем работ на 800 млн. рублей. С тех пор туда направлялись хоть какие–то деньги?
— Нет. Сняли инвестиционную программу. Приняли решение сконцентрировать средства: конкретизировать объекты, полностью их реконструировать и сдать. Думаю, это правильно. Если деньги «размазывать», не будет ни там, ни там. А так посмотрите, что было в Несвиже или Мире 5 лет назад и что сейчас. Замково–парковый комплекс в Мире, кстати, тоже наш филиал. Пока я патронирую шесть объектов: музеи в Раубичах, Ваньковичей — в Минске, Бялыницкого–Бирули — в Могилеве, Мозырскую картинную галерею, комплексы в поселках Гольшаны и Мир. Но скоро филиалы, расположенные за 200 — 300 километров от Минска, будут отданы местным властям.
— А они не закопаются с таким ценным наследством?
— Но им же дадут те же бюджетные деньги! Какая разница?
— Разница в том, что любые целевые деньги имеют обыкновение уходить на местах на латание дыр. Не от хорошей жизни, разумеется.
— Нет, абсолютно все расписано. Мне проблема видится в другом. Например, в Мире планируем прямо в замке сделать гостиницу. И надо где–то найти 500 тысяч долларов для того, чтобы это было на европейском уровне.
— А сколько звезд?
— Четыре.
— Четыре — европейских?
— Ну, может, три. Дело пока не в этом. Чтобы все шло планово, необходимо уже начинать финансировать закупку интерьеров. Это должен взять на себя инвестор: он вложит свои деньги, естественно, сможет взять гостиницу в аренду. Но тут–то и кроется проблема. Аренда ведь на 5 лет! На этот срок никто вкладывать огромные деньги не будет. Что делать? В таких случаях отдают часть замка в аренду инвестору (или потомку бывших владельцев) на 90 лет, он тогда охотно вложит деньги в реконструкцию.
— Это мы фантазируем, как я понимаю.
— Конечно, фантазируем! А вы задайте вопрос, почему? Отвечу: я же директор не ООО, а государственного музея, который даже не хозрасчетная организация. Но я все равно говорю об этом, потому что государство не потянет эту ношу самостоятельно, мы к этому придем. А думать надо уже сейчас, потому что серьезному инвестору нужна гарантия возврата денег. Пора создавать базу. Когда будет закон, инвестор обязательно придет. И, кстати, сегодня уже можно было бы иметь спонсорские деньги на реставрацию тех же Гольшан.
— Вы ведь имеете опыт общения со спонсорами — иностранным капиталом. Не в таких глобальных масштабах, но все же...
— Огромное спасибо и на том. Я вот думаю собрать попечительский совет, привлечь и отечественные фабрики–заводы–пароходы.
— «Пароходы» уже созрели?
— Да нет, конечно! Но мне не хватает денег, я просто вынужден крутиться! Вы подумайте: столько проектов! Представьте: собираются физические и юридические лица, которые на счет музея или под акцию дают деньги. Или еще лучше. Например, к открытию выставки ярославских икон (к 22 марта) я хочу издать каталог, и мне, условно говоря, нужно 8 тысяч долларов. Вот если бы они в складчину сами издали этот каталог, я был бы счастлив! Или вот еще затея: объявили мы открытый конкурс «Входной билет». Сейчас–то билет в музей — обыкновенная бумажка, как в магазине. А мы хотим, чтобы это была память о посещении музея. Заодно там будут реклама филиалов, информация о выставках года. Спонсор дает премию за лучший проект. Мы решили каждый год объявлять конкурс на новый облик билета. В общем, все стоит денег, и их надо где–то искать. Конечно, меня никто не ругает за наш непрезентабельный билетик, я мог бы его не делать, но...
Владимир Иванович немного по–детски опустил глаза, на секунду став похожим на расстроенного ребенка, который не в силах отказаться от продуманного плана. Впечатление детскости исчезло так же быстро, как и появилось. И я сказала:
— У нас даже за Гольшаны никого не ругают. Через 20 лет развалины сровняются с землей, никто и не вспомнит. А вы говорите — билет.
— Да... Но я затеял этот конкурс потому, что музей все–таки начинается с билета. Тем более что в конкурсе может принять участие любой. Мне кажется, это сравнительно недорогая и очень красивая акция. Есть еще идея сделать униформу для смотрителей с логотипом. Надо понимать, что такое уровень Национального музея, — мелочей не бывает. А денег на все не хватает. Вот почему спонсоры должны вкладывать.
— Они — должны?
— Конечно! А как иначе поднимать культуру? Смотрите, я вот придумал делать обертки для конфет и шоколада с репродукциями картин. Хруцкий, например, — его натюрморты. Это тоже пропаганда нашего искусства, имидж страны, опять же престижно для фабрики: новая красивая серия. Не конфета «Аленка» там какая–то, которая по всему СНГ продается, а пропаганда нашего искусства! И мы ведь не просим ничего взамен! Сейчас работаем со «Спартаком». Я не собираюсь настаивать, каждый волен сам определяться. Но вообще удивляюсь: столько идей — ко мне спонсоры именно сами должны приходить. Ведь наш музей пятый по уровню после «Третьяковки», Русского музея, Эрмитажа...
— Каковы критерии оценки уровня?
— Качество коллекции, конечно.
— Количество совсем не в счет?
— Картинок можно тысячу повесить.
— Это в Национальный–то музей? А как же статус, который сам по себе держит планку? Мои художества в ваши залы не повесят!
— Да я и свои не предложу, — живо отозвался Владимир Иванович. — Нет, если без шуток, у нас действительно уникальная коллекция русского искусства, белорусских икон, радзивилловских портретов. Я вот был в Польше — оговаривали совместный проект: готовим выставку и каталог портретов из собрания Радзивиллов, находящихся в музеях Беларуси и Польши.
— Кстати, о портретах из белорусских поместий. Как известно, они составляли основу первой минской картинной галереи, которая потом стала именоваться музеем. Но почти все было разграблено в начале войны. Даже гауляйтер Кубе не смог найти концов и рапортовал в Берлин: «Все потеряно безвозвратно». Он был прав? Потеряно безвозвратно?
— Да. Кроме того, мы и не имеем прав на те картины. Потому что в 1939 году была создана всего лишь галерея, куда были просто свезены картины из усадеб. Да, они стали собственностью государства. Но ничего не было закаталогизировано.
— Именно отсутствие каталога имеется в виду, когда говорят: «Нет инструмента возврата»?
— Да. Ну кто знал в 1939–м, что в 1941 году будет война? Переписали бы все ценности и отпечатали. Когда есть каталог и о картине написано: работа такая–то, изображено то–то, в правом верхнем углу холст порван и прочие приметы отмечены, можно искать и требовать возврата.
— Значит, если на аукционах что–то и всплывет...
Прокопцов покачал головой.
— Не участвуете в аукционах?
— Нет денег. Покупаются только наши современные художники за грант Президента: это порядка 30 — 40 работ в год. Есть республиканская комиссия. Проходят выставки мэтров — как правило, одну работу покупаем.
— У нас вроде серьезная персональная выставка — это как медаль или букет на 60–летие. Надо еще дождаться.
— Ну почему? Покупаются и из мастерской работы. Это ведь не Прокопцов лично закупает!
— Я понимаю. Владимир Иванович, у меня есть знакомый художник, он пишет странные картины, которые мне очень нравятся. Он в основном в Европе их продает. Я подумала как–то: а вдруг это потом будет стоить миллионы? Наши–то опять прошляпят! Я вот к чему. Сложно быть дальновидным? А вдруг кто–то сейчас тут пишет... ну хоть пресловутый «Черный квадрат»?
— Даже у наших патриархов картины закупаются раза в три дешевле, чем они стоят. Это не самый выгодный вариант для художника.
— Я думаю, продали бы в три раза дешевле. Просто, чтобы остаться в своем музее. А вы берете не у мэтров?
— Я уверен, что работы того, о ком вы говорите, есть в нашем музее. Давайте лучше расскажу о направлениях нашей работы. Мы ведем выставочную деятельность, связанную с фондовыми коллекциями, есть и международные проекты. Недавно, если помните, был Сарьян. Потом будут (я уже говорил) иконы Ярославля, летом Акопа Акопяна привезем, осенью — сокровища Эчмиадзина. Была еще выставка Мстислава Добужинского (многие его не знают, но он пользовался сумасшедшей популярностью) — тут речь идет об эксклюзиве, равно как была эксклюзивом и выставка икон из Киево–Печерской лавры. Эти иконы никогда не покидали стен лавры, только у нас и были. Или вот еще привозили экспозицию: «Тарас Шевченко — художник». Никто не видел этих работ, даже работники музея Шевченко приезжали в Минск — посмотреть. У них все это годами в папках лежало.
— А позвольте поинтересоваться, отчего нас балуют эксклюзивом? Ваша заслуга?
— Это все — личные отношения. И дружеские связи. На этом строятся многие договоренности.
— Понятно. Что слышно с пристройкой к музею?
— В этом году сдаем.
— Неужели? Наверное, за время строительства проект безнадежно устарел? Шутка ли: 20 лет!
— 11 лет. Проект корректировали.
— Говорят, вы недовольны работой архитектора Белянкина, автора проекта пристройки, который поставил авангардные фонари у фасада музея. А вы при помощи хитроумной комбинации от них избавились.
— Это был безобразный проект и безобразные фонари — можете так и написать.
— А некоторым нравилось смешение стилей. Про Белянкина иные журналисты говорят: «белый лебедь» модерна. А у вас, говорят те же журналисты, с ним личная неприязнь.
— Абсолютная ерунда. Мне просто не нравится виртуальная, не привязанная к жизни архитектура. Фонари тут не «вязались», я сказал: уберу, найду способ. И убрал.
— Можно я расскажу, каким образом? Вы обратили на них внимание знаменитого Шилова, консерватора, как известно. Шилов с вами согласился и тоже свое мнение стал высказывать, будучи в Минске. Он — звезда и авторитет. К нему прислушались. Вы знали, кому сказать и когда.
— Конечно. Но согласитесь, я был прав! Это историческая зона 50–х годов. Фонари, что стоят сейчас, — тоже временные. После реконструкции старых зданий мы их поменяем на те, что были сделаны первым директором Михолапом. Это будет стилизация под слуцкий пояс. Впрочем, это не скоро, лет через 10. — Прокопцов снова решительно повернул беседу в иное русло. — Хотите, я лучше расскажу вам о летучей мыши, которая живет в здании Национального художественного музея? В полночь — представляете? — она превращается в девушку и становится хранительницей фондов. А 14 мая у нас в музее будет выставка — длиться она будет всего три часа: с 22.00 до часу ночи. Ровно в 00.15 мышь превратится в девушку. Я выведу ее, и вы увидите, что она стоит со мной рядом. — Владимир Иванович пристально посмотрел на выражение моего лица и констатировал: — Вы не верите. Да спросите у работников музея, к любому подойдите, хоть к охране — вам скажут: это правда! Летучая мышь–хранительница существует.
— Я как раз спрашивала кое у кого из персонала, что у вас в музее нового происходит. Мне сказали, что вы старых работников на молодых начали менять. Это не из–за того, что некого на роль мыши взять?
— Ах вот вы о чем! Действительно, как раз сегодня мы торжественно проводили Антонину Ивановну Кубанцеву — это опытная смотрительница, но уже пожилая женщина, 1919 года рождения. Тут вот в чем дело. Обязанность смотрителя — не только следить, чтобы посетители руками экспонаты не трогали, но и влажную уборку производить. К сожалению, в старом здании все это делается вручную — с тряпкой и шваброй. Это нелегко 80–летней женщине. И потом, должна же быть преемственность поколений. Я обязан об этом думать как директор? Конечно, можно быть бесконфликтным руководителем, сидеть и тихо писать диссертацию.
— Так вы же и так вроде достаточно бесконфликтны?
— Почему это? Я очень даже конфликтный: со всеми своими непосредственными руководителями из министерства! Поинтересуйтесь у бывшего министра культуры, что собой представляет Прокопцов! Они меня и теперь, знаете, как называют? Даже в Совмине... за «Третьяковку»... как же он меня назвал...
— Давайте я вам подскажу.
— Нет, подождите... Они мне сказали: «Вы наш...», в общем, что–то вроде «возбудителя спокойствия».
— Ну что ж, не самая худшая характеристика для руководителя.
— Или вот спросите: а авантюрист ли я? Да, я здоровый авантюрист!
— Владимир Иванович, вы меня заразили — мне хочется все–таки добавить в коллекцию характеристик мнение одного вашего доброго знакомого. Он сказал: « У вас профессионализма меньше, чем интуиции, которая, между прочим, фантастическая».
— Профессионализма меньше? Музейного? — ревностно переспросил Прокопцов, в котором немедленно проснулся художник, то есть творческая личность, которая ни за что не позволит кому бы то ни было усомниться в профессиональной состоятельности (это, между прочим, у всех у нас, творческих, такой грешок есть).
— Музейного, конечно, — ответила я. — Вы воспринимаете эту характеристику, надеюсь, как комплимент?
— Ту, что вы сказали? Да, наверное. Я самосев. После института в 22 года сразу пошел работать вторым секретарем Лепельского райкома комсомола. Потом поступил в аспирантуру, через 2 года защитил диссертацию и меня из Института искусствоведения взяли сразу заведующим отделом культуры ЦК комсомола. Это все происходило непреднамеренно, так складывалось, это не была самоцель. В Институте искусствоведения не было возможности развернуться, мне не хватало простора. Я в 8.30 приходил на работу, а в 10 сидел дома, пил чай. Я стал зав. отделом культуры ЦК, не пройдя обычного пути: через сельский, районный городской и областной уровни. Меня вынесло на поверхность. И учился, общаясь с такими людьми, как Максим Танк и Иван Чигринов. Я рос с ними и этим очень горжусь. Потом я в Москву планировал уехать, в ЦК комсомола (я был единственным искусствоведом среди комсомольцев в этой нашей среде). Но началась перестройка. Потом я был искусствоведом (наемным) в галерее «Медея» — это первая частная галерея. Делал выставки, вернисажи — мне стало интересно. Я имел связи с художниками, мы чего только ни устраивали: с масками, играми — это увлекало.
— Можно задать вопрос о Борисе Заборове? Почему он колесит с выставками по России, а в родной Минск не заезжает? Ходят слухи, что его тут как отщепенца коллеги не ждут, а вы им потакаете.
— Идемте, я покажу вам факс от Заборова. У него все расписано на многие годы, так он говорит. Я встречался с некоторыми уехавшими нашими художниками в Париже, мы даже пиво пили и обсуждали проекты с выставками. Я приглашал: пожалуйста, приезжайте! А мне теперь отвечают: заняты. Ну что я скажу?
— Может, вы обиделись на них?
— О–ой, мне на художников незачем обижаться! Я вообще не имею права обижаться — даже на сотрудников. Моя должность... как вам сказать точнее и честнее? Я ведь знаю их мир изнутри... они порой, — тут он замолчал.
— Как дети? — вспомнила я недавнее выражение на лице самого Прокопцова.
— Совершенно верно! Вы сняли с языка — я просто побоялся этого слова.
— И вы тоже бываете ребенком?
— Мне часто некогда, приходится вертеться. Я человек здоровых амбиций. Я бы не делал проекты сумасшедшие и даже эту выставку — он оглянулся на стены. – За 7 лет я по–настоящему не был в отпуске, все время боюсь: если что–то сейчас недоделаю, это накопится, и я потом отстану. Знаете, почему я к Пиотровскому ездил на день рождения?
— Знаю только некоторые подробности из этой поездки. Так почему же вы ездили?
— Потому что это для меня было огромной честью. Он меня пригласил, а больше там ни одного директора музея из стран СНГ не было. Там интересную фразу сказала Матвиенко, когда поздравляла Пиотровского. Она сказала: «Мы потеряли искусствоведа, но приобрели прекрасного директора».
— Это желанные слова для вас?
— Я свое 50–летие с днем рождения музея пока не совместил. Это Пиотровский может себе позволить свое 60–летие и 240–летие Эрмитажа в один праздник свести.
— Вы правы, не каждый скажет о себе: я и Эрмитаж.
Мы снова вспомнили о картинах и стали смотреть их дальше: «Это наш дом в деревне, кладбище и тут сад цветущий, — объяснял Владимир Иванович. — А это такое состояние между ночью и утром...»
Я посмотрела на картину, где дом в деревне утопает в сиреневой кипени, и вдруг сообразила, что вижу ответ на интересовавший меня вопрос: оказывается, все–таки крестьянский сын? Перевела взгляд на плавное движение директорской руки, привычно–элегантным взмахом поправляющей непослушные локоны, и спросила: «Так вы деревенский?» Прокопцов простецким кивком подтвердил мою догадку, а я подумала про себя: «Вот человек! Поди разберись...»
- Over thousand border guard soldiers took military oath
- Viktor Lukashenko: Belarus long occupied worthy place in global sports community
- Belarus’ NAS delegation displays its scientific and innovative potential at international conference in China
- Golovchenko: companies from different countries, including unfriendly ones, continue joining Great Stone Industrial Park
- MTZ to display record number of equipment and units at Belagro-2024