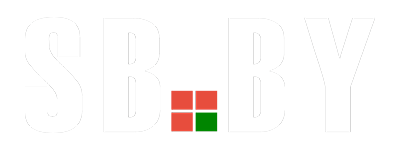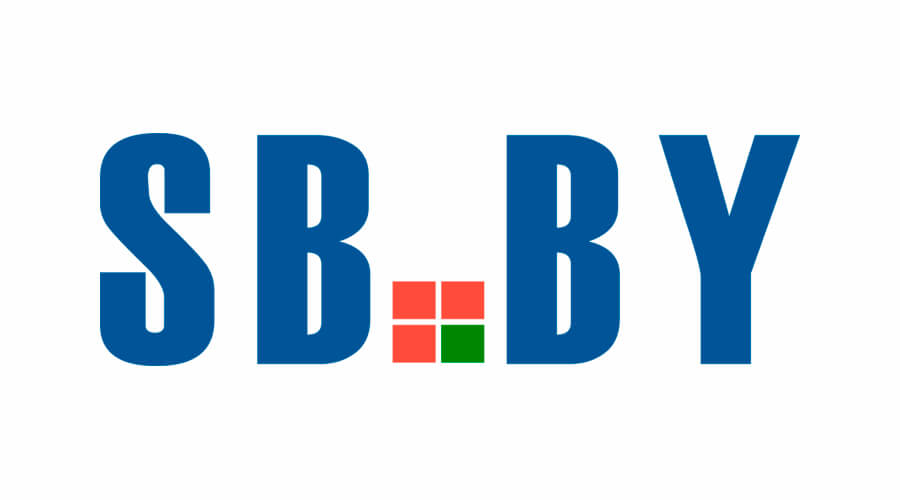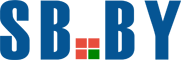Отец редко рассказывал о войне, только под настроение. Кенигсберг, Данциг, Сопот, Гдыня, Щецин, ну и, конечно, Берлин — эти названия городов я хорошо запомнил с детства. Вот только Кенигсберг и Данциг я никак не мог найти на карте.
— В Пруссии ищи. Калининград и Гданьск, — говорил отец, закуривая свой «Север», но в своих рассказах он все равно называл эти города по–старому.
— Под Кенигсбергом меня поставили третьим номером к «максиму». А кругом такое месиво — голову не поднять. Первый номер дал пару очередей: тырр... тырр.. а ему пуля прямо в лоб. Готов! Второй подполз к пулемету — ему в руку. Снайпер, собака, засек. Отползли мы от пулемета, затянул я ему руку веревочкой от обмоток, а он говорит: «Отвоевался. Ну ты тут давай, а я — в санчасть!» — и вроде рад, что его ранило.
Оттянул я пулемет с этого проклятого места, бежит командир: «Чего не стреляешь, мать твою раз так? Где расчет?! — увидел убитого и говорит: — Браток, поддержи огнем, пока патроны есть, и уходи за ручей!» — и побежал дальше.
Лег я за пулемет, стреляю. Из «максима» уже пар пошел, а тут немцы из минометов жахнули. Жму на гашетку, а кругом мины рвутся. Вой, свист осколков, аж душу выворачивает. Как не зацепило?..
Отец замолчал, прикурил новую папироску. Я смотрел на него во все глаза, стараясь не пропустить ни одного слова.
— Патроны кончились. Надо уходить, а как? Только ползком. А пулемет не бросишь! Привязал его за дужку станины ремнем к ноге, ползу, а кругом грязища, колесики застревают в рытвинах, пулемет тяжелый, ногу ремнем режет. Дополз до ручья. А было это в начало апреля, вода холодная. Кое–как перетащил «максима» через ручей, бросил под кустом, а сам — в воронку от снаряда. Прибегает командир, увидел меня. «Живой? — удивился он. — А где пулемет?!» — «Вон, под кустом».
— Пап, а немцев вы видели, когда стреляли? — нетерпеливо спросил я.
Отец посмотрел на меня, грустно улыбнулся:
— Не дай бог, сынок, такое увидеть, что было под Кенигсбергом.
— А что было потом? — спросил я.
— На четвертые сутки взяли Кенигсберг. От города ничего не осталось, одни развалины. Потом взяли Данциг. Замполит говорит: «Кто первым принесет фляжку морской воды — тому орден!» Молодежь, новобранцы, побежали, с ними еще пару придурков.
— А вы? — вырвалось у меня.
Отец укоризненно посмотрел на меня:
— Ничего ты не понимаешь. С «максимом» бежать черт знает куда?! На фронте лишнюю минуту передохнуть, поспать — счастье!
В кино были герои. Они громили врага, метко стреляли, во весь рост шли в атаку, подрывали танки, сбивали самолеты. Их грудь украшали ордена и медали, а то, что рассказывал отец, было как–то просто, без того героизма.
— Вошли в поселок, как наша деревня, только дома каменные, аккуратные и сараи каменные. Коровы жуют свежий клевер, — продолжал отец. — В доме стол накрыт: белая скатерть, посуда дорогая, вилки, ложки, фужеры, вино в бутылках. В углу большие часы с маятником — и никого. Только один наш солдат лежит на полу. Вбежал командир. «Кто его?!» — спрашивает. «Вина выпил», — говорят хлопцы. Командир схватил автомат — и по столу, по посуде, по часам, а самого аж трясет! Не от пули человек погиб, а так, по дурному, отравился. Что тут скажешь?..
Отец замолчал, прикурил потухшую папироску.
— После Данцига дали мне американский студебекер. Показали, как переключать скорости, газ, тормоз — и вперед, подвозить боеприпасы. Машина большая, сильная, прет по грязи хоть бы что. Под Щецином еду, а за спиной — полный кузов снарядов. Страшно! Если ахнет в машину — разнесет в щепки. Дороги почти не видно. Кругом дым, огонь, горящие дома, мины свистят. Главное — не остановиться, а то, если не накроет миной, сгорю в этом пекле. Тут совсем заволокло дымом, носа моего «студера» не видно. Дал я газу и держу руль прямо, думаю: будь что будет! Как я тогда выехал, сам не знаю...
Отец замолчал, пошарил в пачке, нашел папироску, смял ее и пошел на кухню.
— Ну все, пора на куросадню, а то школу проспишь, — сказала мать.
На кухне звякнуло горлышко бутылки о стакан, отец крякнул и пошел в кровать. Он еще долго ворочался в постели, курил.
— Хватит чадить, спи, — проворчала мать, и в хате наступила тишина.
В ту ночь я долго не мог уснуть. Мне мерещилось, как отец на студебекере врывается в фашистское логово, подрывает его. Ему цепляют на грудь орден, и он на новеньком студебекере, возвращается домой...
С войны отец вернулся весной 46–го. Он недолго прохлаждался, собрал документы, шоферские права 3–го класса и поехал в Борисов устраиваться на работу.
В леспромхозском дворе стоял видавший виды газогенераторный грузовик «Чугрей». Эти машины работали на березовых чурках. Отец возился под капотом «Чугрея», вдруг услышал:
— Гайдук, что ты тут делаешь?
Отец обернулся. Перед ним стоял его партизанский товарищ Роман Фундылер. Они поздоровались, как будто только вчера расстались в партизанском лесу.
— Вот соберу «Чугрея», работать надо, — сказал отец.
— Ай, зачем тебе этот мазут? Возьми на базе мешок гороха, езжай в Чернявку и открывай магазин. Что тебе еще надо?! — весело сказал Фундылер. — Шофера мы найдем, а хороший завмаг позарез нужен. Открывай магазин и не говори глупости.
До войны отец работал в сельском магазине, а Фундылер был его начальником. Вот так партизанское братство и давнее знакомство помешали отцу сделать шоферскую карьеру.
А мне было очень жаль, что отец променял пусть даже «Чугрея», а не студебекер, на магазин.
Советская Белоруссия №148 (24285). Суббота, 10 августа 2013 года.