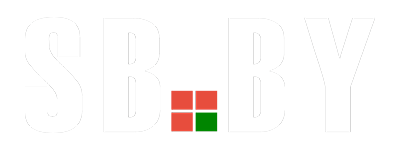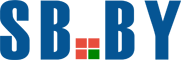Игорь Гамаюнов. Щит героя: Роман, повести, рассказы. Послесловие Льва Аннинского. — М.: Изд–во МИК, 2015. — 358 с. — 1.000 экз.
В эпоху перестройки казалось: достаточно громко сказать всю правду, и жизнь мгновенно изменится. Сказано было много, но все ли правда? Жизнь изменилась, да так, что многие не дожили до ответа на вопрос: где же она, правда–то, какова на вид?
При всем богатстве тем новой книги Игоря Гамаюнова «Щит героя», включающей в себя одноименный роман и несколько повестей и рассказов, эта — сквозная, жгучая, самая отчаянная.
В юности будущему знаменитому журналисту Степницкому мечталось о копье и щите Спартака, о разоблачениях Зла и защите Добра. Щит тут выступает атрибутом победителя. И журналист действительно прославился своими громкими разоблачительными очерками, которые зачастую восстанавливали попранную справедливость и выявляли преступные действия чинуш и их кланов, сект и их покровителей.
Однако цензура тех лет требовала представлять расследованные дела как частный случай, нетипичный казус на фоне общего благополучия. И в этом была та самая кривда, которой так стремился избежать Степницкий. Но власти, откликаясь на публикации, принимали меры, справедливость торжествовала, пусть и в отдельных случаях под флагом «искоренения отдельных недостатков».
А потом пришли времена, при которых преступления прежних лет показались мелкими грешками. Журналистам стали угрожать, а случалось и убивали.
Щит, как и копье, прежде выступал атрибутом героя–победителя, а ныне — побежденного. Образ жертвы теперь оказывается эскапистским щитом для неудачливой деревенской девушки Насти, в которую влюбляется герой, самооправданием для лишившихся работы мужиков, называющих себя «жертвами перестройки», психологической защитой, раковиной для улитки.
Щит, как и меч, становится картонным, бесполезным.

Мир атомизировался, сузился, возможности действия иссякают, утекают, как вода сквозь пальцы, никто ни за что и ни за кого не отвечает, будничным стало отношение к человеку, как к средству, — использовал и выкинул. Наступило безгеройное время, время желтой прессы и телевидения, скинувшего с себя, со своего «парохода современности» художественный вкус. И опять, опять — время оговоров и предательств, отношения к зигзагам политической линии внутри страны как к погодной аномалии.
В русской традиции издавна различали правду–истину и правду–справедливость. Так, у знаменитого социолога Николая Михайловского правда–истина — это объективное видение окружающего таким, каково оно есть, а правда–справедливость — представление о том, какова реальность должна быть. Н.Михайловский ставил задачу такого их соединения, в котором бы они дополняли друг друга. Есть законы исторического развития, но правда–справедливость требует от людей действия.
Позже в «Вехах» Николай Бердяев упрекал интеллигенцию в том, что ради правды–справедливости она забывает правду–истину, т.е. игнорирует реальность ради идеала. Поэтому и Георгий Федотов характеризовал русскую интеллигенцию как идейную и беспочвенную. Философское обсуждение этих категорий возобновилось в России лишь в 1990–е годы. Однако люди своей жизнью как–то решали — или не решали — проблему понимания объективных реалий и их изменения.
Да, российская история часто ходит по кругу. Да, она движется рывками. Однако это не значит, как пишет в послесловии к книге Лев Аннинский, что «врут все», а виноватых нет, ибо виновата–де «сумма исторических обстоятельств». Лев Аннинский, таким образом, отрицает правду–справедливость, трактует ее как иллюзию, связывает царящую в социуме атмосферу абсолютной подделки с характером народа и призывает терпеть и быть готовым к рывкам и взрывам, свойственным русской истории.
Конечно, рывков и взрывов в истории России достаточно. И крови пролито с избытком. По словам Григория Померанца, «дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело». И «когда хотят сделать людей добрыми, мудрыми, свободными, воздержанными, великодушными, то неизбежно приходят к желанию перебить их всех», как сказал Анатоль Франс.
Означает ли это, что, видя несправедливость, надо относиться к ней как к погодной аномалии? И вся жизнь Степницкого, небезгрешного человека, но делавшего то, что было возможно, то, что получалось изменить к лучшему, потому что на том стоял и не мог иначе (а в романе много автобиографического) — бессмысленна? Согласиться с уважаемым критиком Львом Аннинским тут никак не могу. Не согласятся с ним и те, кому в жизни помог автор, а в романе — журналист Степницкий.
Анна ЯКОВЛЕВА.
www.lgz.ru


На перекрестках эпохи
Литература 90–х — это уже бренд, часть истории, как и литература «оттепели». В эпоху перестройки вдруг стало можно не только писать обо всем, прежде запретном, но и публиковать это.
С одной стороны, появились яркие и дерзкие произведения в толстых журналах, с другой — море чтива, на дешевой бумаге, с аляповатыми иллюстрациями, то, с чем сегодня без жалости расстаются хозяева домашних библиотек. Уже тогда многих начинала коробить «чернуха», к которой естественным образом от соцреалистического пафоса качнулся маятник. Литераторы торопились слить всю ужасную правду бытия застойного общества. Однако понятно было, что в крайней точке маятник не застынет и после отчаянных рывков от красивого вранья до трескучего изобличительства он останется в амплитуде художественной правды. Да–да, есть и такая, уравновешивающая правду–справедливость и правду–истину в меру таланта писателя.
Еще одно искажение в поле постсоветской литературы прекрасно сформулировал Фазиль Искандер, сравнивший ситуацию, в которую попали уже состоявшиеся литераторы, с положением человека, который долгие годы вынужден был выживать в одной комнате с опасным сумасшедшим, научился его не раздражать, изъясняться эвфемизмами, иногда обыгрывать... И вдруг весь этот опыт выживания оказался ненужным.
Кто растерялся, особенно на фоне новых литературных веяний, кто честно попытался отразить, что видит, с новых позиций. Пример — последние книги Ивана Шамякина. В повести «Палеская мадонна» — кризис девяностых во всей красе, многодетная мать Надежда Русак, которая изобличает президента агрофирмы и пытается прокормить детей. Тут и «челноки», и талоны, и незаконный вывоз детей для усыновления на Западе...
В постсоветской белорусской литературе ярко выразился еще один фактор: самоидентификация белорусов. Как отдельного народа со своей историей и культурой, как независимого государства. И это — тоже наша истина–справедливость, о которой говорит социолог Николай Михайловский. Как рассказывала одна шведская критикесса, сейчас в европейской литературе популярны три темы: гендер — то бишь положение в обществе женщины, социум — противостояние социальных прослоек, власти и человека и этнос — сохранение национальной самобытности в мире глобализации. В белорусской литературе именно последний ракурс всегда был актуален особо. Потому еще в 90–х таким спросом пользовались издания вроде «Уладароў Вялiкага княства» Витовта Чаропки и «Меча князя Вячкi» Леонида Дайнеки... Сегодня, согласно опросу, всего пять процентов в стране читают книги на белорусском языке! Да, опять зигзаг истории к тому времени, когда писатели–возрожденцы должны были твердить, что белорусский язык не хуже других, писать «Лемантары» и даже в уме не держать возможность заработать на творчестве.

«Мы не врачи, мы — боль» — это высказывание о писателях нельзя оспорить. Литература настоящая нажимает на болевые точки общества, что, естественно, вызывает дискомфорт. Страшен, пронзителен рассказ Андрея Федоренко «Бляха», переведенный во многих странах, от Америки до Японии. Он показывает жизнь послечернобыльской деревни, в которой остался всего один относительно молодой мужчина. Романы Алены Браво — тоже нелегкое чтиво, это о судьбе женщины в провинции, ограниченной негласными табу, наполненной рутиной и тоской по настоящей любви. Много говорили и о романе Юрия Станкевича «Любiць ноч — права пацукоў», в котором он, пожалуй, впервые так резко в нашей литературе показал проблему миграции, столкновение разных культур. Как человек должен сражаться с беззаконием? Как защищать свой дом, если его отбирают как бы на законных основаниях, втихую? Юрий Станкевич предлагает то же решение, что и Виктор Астафьев в «Печальном детективе». Впрочем, проза Станкевича — это не руководство к действию, а скорее романы–предупреждения. Есть у писателя и антиутопии, весьма модный сегодня жанр. К коему относятся и роман Виктора Мартиновича «Мова», рисующий одичавший, забывший свою историю Минск будущего, в котором белорусские книги — запрещенный наркотик, и издевающийся над бюрократической системой роман «Сарока на шыбенiцы» Альгерда Бахаревича... Духовный поиск продолжается. С одной стороны, не защищать свое, покорно перенимать чужие ценности — тупиковый путь... С другой стороны, к чему приводит деление на наших — не наших, поиск врагов и попытка навязать всем свои, конечно, самые верные, идеалы? К насилию.
Знаете, хочется вспомнить известное высказывание о том, что страшен не тот человек, который вообще не читал книг, а тот, кто прочитал всего одну. Это нормально — когда одинаково талантливые книги не согласны между собой, но одинаково заставляют думать, глубоко ранят... Именно за это, если вы помните, их и сжигали в романе Брэдбери «451° по Фаренгейту».
Литературы не может быть без мучительных поисков истины–справедливости и попытки отразить истину–правду... Не надо эти истины противопоставлять. И не надо относиться к писателям, достаточно смелым, чтобы писать жалящую правду, как древние афиняне — к Сократу, который уподоблял себя оводу, подгоняющему ленивого быка.
rubleuskaja@list.ru
Советская Белоруссия № 66 (24696). Среда, 8 апреля 2015