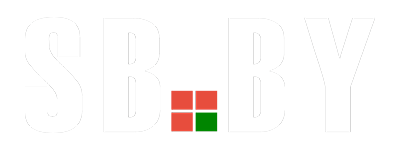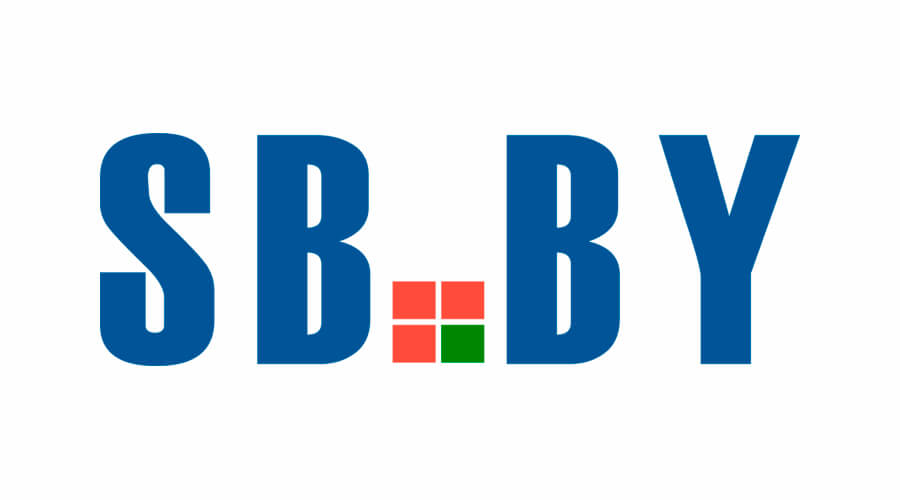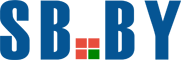Митта недавно отметил восьмидесятилетие, поработал на «Кинотавре» председателем жюри, а осенью выпустит (нам так кажется) лучшую свою картину. Так уж получилось, что главное свое кино – самое свободное, авангардное и притом, как всегда, крепко свинченное – он снял в том возрасте, в каком режиссера обычно хватает только на мемуары. Фильм «Шагал – Малевич» – о конфликте двух мэтров русской живописи во время Гражданской войны – выйдет в сентябре. Человек пятьдесят его уже видели. Сейчас Митта продолжает колдовать над монтажом, отрываясь на интервью с явной неохотой.
Митта недавно отметил восьмидесятилетие, поработал на «Кинотавре» председателем жюри, а осенью выпустит (нам так кажется) лучшую свою картину. Так уж получилось, что главное свое кино – самое свободное, авангардное и притом, как всегда, крепко свинченное – он снял в том возрасте, в каком режиссера обычно хватает только на мемуары. Фильм «Шагал – Малевич» – о конфликте двух мэтров русской живописи во время Гражданской войны – выйдет в сентябре. Человек пятьдесят его уже видели. Сейчас Митта продолжает колдовать над монтажом, отрываясь на интервью с явной неохотой.
– Любите вы двадцатые годы, правда же?
– И не скрываю.
– В этом сегодня редко признаются. Кровь, диктатура...
– Для меня самого тут парадокс. Я же все понимаю: кровища, действительно. Свои против своих. Ленин требует расстреливать попов и дворян. Разрушена далеко не худшая страна: ведь эти жандармы пресловутые, сатрапы и прочая были настолько честны, что нынешние на их фоне – просто монстры. Сравните сегодняшнее полицейское взяточничество или пытки с тогдашними жандармскими прегрешениями. И что, она медленно развивалась, та Россия? Она, по крайней мере, сама себя кормила, и на экспорт оставалось... И тем не менее, когда эта империя рухнула – смотрите, какое чувство свободы, какой полет, какой глубокий счастливый вдох! Критерий-то один – искусство (не случайно сегодня его почти нет). А тогда – послушайте Первую симфонию и ранние концерты Шостаковича. Восторг, ликование, отвага! В кинематографе СССР вообще долго, до конца тридцатых, оставался безусловным лидером: все – гении, потому что всё – впервые. Три титана, на которых до сих пор все стоит: Эйзенштейн изобрел киноязык, Довженко – отец поэтического кинематографа, Пудовкин – социальной драмы. Видимо, срабатывала уверенность в том, что все они действительно строят новый мир: с миром не получилось, а с искусством – да.
– Вы ведь не режиссер по первому образованию?
– Инженер-строитель. Меня Мельников учил, тот самый, знаменитый – кстати, это ведь ему принадлежит архитектурная идея Мавзолея. Щусев доделал его эскиз. И за эту заслугу Мельникову разрешили построить себе мастерскую – знаменитый круглый дом. У него хранились аккуратно подшитые статьи из европейских газет, где он провозглашался классиком, – строить в СССР ему ничего уже не давали. Он меня выделял, приглашал домой – вот там я, может быть, начал понимать людей двадцатых годов...
– А Родченко не застали?
– Родченко – нет. Он умер в пятьдесят шестом. Я вообще с кругом Маяковского почти не был знаком, хотя возможности еще были: обязательно со многими сошелся бы, если б умнее себя повел. Меня после «Гори, гори, моя звезда», когда я стал входить в некоторую моду, позвали к себе Лиля Брик с Катаняном, тогдашним мужем. А у Катаняна был прекрасный приемник, ловящий множество заграничных станций, – и я так заинтересовался этим приемником, что уделил ему больше внимания, чем Лиле. Такое не прощалось.
– Каким образом у вас тогда вышла «Гори, гори...» – до сих пор загадка.
– Довольно удивительным образом – я после нее оказался должен государству 144 рубля, не говоря уж о каком-то вознаграждении. Картина с самого начала была под угрозой и несколько раз спаслась чудом, ценой регулярных скандалов с начальством. Я очень хотел снять историю про молодого революционного художника, у меня и сюжет был, но я чувствовал, что в нем многого не хватает – женской роли, например, да и вообще нужен был профессионал. Я пошел к двум давним своим друзьям, Дунскому и Фриду, – они долго отнекивались, их это не увлекло, потом согласились и написали отличную повесть. На роль Искремаса утвердил я Ролана Быкова, про которого один славный кинодраматург говорил: Ролан – это фонтан чудовищного напора, и бьет из этого фонтана одновременно шампанское, одеколон и борщ. Он немедленно начинал сам ставить любую картину, в которой участвовал: меня от этого предостерег еще однокурсник мой Тарковский, который хоть никого из коллег особенно не любил (мне кажется), но с некоторыми, как со мной, имел хорошие отношения. Он честно предупредил: с Роланом – ни-ни, он будет главным на площадке, даже если у него там один эпизод. А что вы хотите – он с детства был суперзвезда, общий любимец во дворце пионеров, где он ходил во все кружки – от стихотворного до, кажется, авиамодельного. И вот он начал играть Искремаса – мрачно, как ему представлялось: «Это тррагедия!» А я хотел, как ни странно, делать веселую, эксцентрическую картину, хоть герой и гибнет там. И вот входят наши танки в шестьдесят восьмом в Чехословакию, и закрывается сразу множество фильмов, и «Звезда» в том числе. Я был, вероятно, единственный, кто отнесся к этому запрету с облегчением. Пошел, однако, требовать, чтобы разрешили снимать. Уверяю, что картина будет светлая, жизнерадостная... «Что, Табакова позовете?» – иронизируют они. Всё – мне только того и надо. «Табакова позову, запомните, вы сами его предложили!» Съемки шли в фантастических условиях – ни до, ни после я такого гротеска не видал: был прикомандирован к нам специальный дядя, который по сценарию следил, все ли идет по тексту. Как только реплики были произнесены, он требовал декорацию разобрать. «Да мне еще крупные планы доснять, взгляды!» – «Вот во взглядах-то у вас все и будет... ирония...» Тем не менее как-то досняли, но постановили вычесть с меня за остановку, за всю пленку, потраченную из-за пересъемки, – тогда-то я и оказался должен. Тогдашний украинский начальник еще заметил, что все бандиты у нас украинцы: «Вот ему бы, режиссеру, не заплатить, тогда бы они думали, прежде чем снимать»... Кое-как я их убедил, что останавливал и переснимал по требованию начальства. Дали все равно третью категорию, без премьеры в Доме кино, с прокатом за пределами Садового кольца. Только месяца через четыре Табаков, у которого были знакомые в ЦК, добился нормального проката: ни на один фестиваль «Звезда» все равно не поехала, хотя Берлин и обещал ей премию, но за границей пошла – сперва в Восточной Германии, потом и в Западной.
– А как вам пришла в голову мысль снимать Высоцкого именно в роли арапа?
– Я всю картину делал только для него. Там другая кандидатура даже не рассматривалась – надо было пробить стену, которую вокруг него выстроили. Высоцкого вообще не рекомендовали снимать, а уж если он песни для картины писал... Для «Арапа» он написал одну из лучших своих вещей – «Купола», – но мне настрого было отказано: скажи спасибо, что тебе вообще его утвердили. Он предложил дать туда «Кони привередливые» – слушать не захотели. Тогда его песни вылетали отовсюду – он для Саши Сурина написал вполне заказную, без вторых и третьих смыслов песню «Черное золото» к фильму «Антрацит», но и оттуда ее выкинули. Все эти разговоры, что Высоцкому давали зеленую улицу, что его втайне обожал ЦК, – это гроша ломаного не стоит: он действительно чувствовал себя во льду. «И снизу лед, и сверху – маюсь между». Претензии начальства были непредсказуемы: у меня была отличная роль для Табакова – шут Балакирев, – запретили: они страшно боялись любого упоминания шутов, поскольку сами себя, кажется, уже ощущали в этом качестве... Более-менее лояльно ко мне стали относиться только после «Экипажа».
– Можете вы рассказать, про что «Сказка странствий»? Это был любимый фильм детства...
– Я снимал ее с наслаждением, а потом очень долго воспринимал как неудачу. Ее обругали все, коллеги в том числе. Я так и думал: ну что поделаешь, не вышло. Только потом выросли вдруг дети, ее посмотревшие когда-то, – и она оказалась любимым фильмом целого поколения, очень хорошего, кстати, даже в каком-то смысле ею воспитанного. Ну как я вам расскажу, про что она? Мы делали эту вещь, когда умирал Дунский: он застрелился как раз во время первого просмотра материала, когда все ушли, а он остался один дома. Не хотел умирать беспомощным и больным. Сценарий писался уже кое-как, он вышел рыхлый. Я и сейчас думаю, что там много лишнего – вся история с драконом, например. Производство было совместное – советско-чехословацко-румынское. В Чехословакии заподозрили политический смысл – там же есть страна, захваченная бандитами! – и накатали на меня донос в Москву. В Румынии тоже обиделись – я, мол, использую флажки цвета румынского национального флага... Прокат дали сугубо детский, на утренних сеансах в окраинных кинотеатрах. А оказалось, это чуть ли не самая известная моя картина.
– Вы преподаете сценарное искусство, драматургию – можете сказать, что такое голливудский сценарий?
– Говоря прямо, это третья великая революция в драматургии. Первая – Эсхил. Вторая – Шекспир. Третья – Голливуд. Все они углубляли и развивали античное учение о трагедии, о восхождении ее к катарсису, наиболее полно оно впервые сформулировано у Аристотеля. Голливуд выработал великие приемы, создал трагедию ХХ века, постшекспировскую. С абсолютно четкой формальной структурой: первый акт – завязка конфликта, не долее 20 минут. Второй – его обострение. Третий – катастрофа. В четвертом намечается тенденция к спасению. Пятый – кульминация, не обязательно счастливая. Классический Голливуд большого стиля – столь же масштабное явление в драматургии, как «Король Лир». Основано оно на синтезе трех главных источников: авторская задача (что именно он хочет сказать и почему), профессионализм, выражающийся прежде всего в точном ритме, и учет требований зрителя. Зрителя надо постоянно тормошить, помнить, на что он ловится, – он за это благодарен. Я ведь не поклонник арт-хаусного кино, ребята. Арт-хаус не думает о зрителе.
Дмитрий Быков, Валерия Жарова.
Советская Белоруссия №114 (24251). Суббота, 22 июня 2013 года.