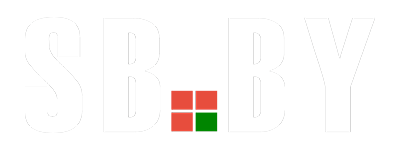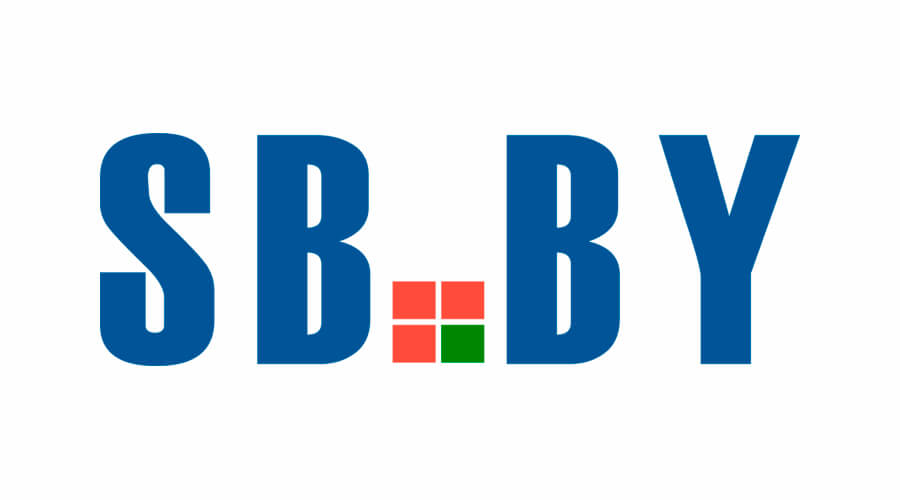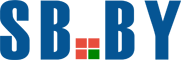Сколько удивительного можно найти в истории каждой семьи! Случается и так, что семейные события столь удивительны и трагичны, что становятся местными легендами. Именно такую историю прислал нам наш читатель Анатолий Долмат. Надеемся, что знакомство с ней не только доставит вам удовольствие, но и пробудит краеведческий интерес.
Сколько удивительного можно найти в истории каждой семьи! Случается и так, что семейные события столь удивительны и трагичны, что становятся местными легендами. Именно такую историю прислал нам наш читатель Анатолий Долмат. Надеемся, что знакомство с ней не только доставит вам удовольствие, но и пробудит краеведческий интерес.
Вот и наступила середина лета — самая сенокосная пора. Над лугами и опушками леса осязаемой пеленой повис медовый пьянящий аромат свежескошенного сена. В эти дни я чувствую себя очень плохо. Сердце, изуродованное тремя инфарктами, обессиленно дрожит и больно бьется о ребра. Мне недостает воздуха, я задыхаюсь, словно рыбешка, выброшенная на лед, и невольно стремлюсь куда–либо на простор полей, где можно жадно ловить порывы вольного ветерка...
Подгибающиеся ноги сами буквально тащат меня на берег Томашового пруда. Еще в конце весны, когда дикие утки–кряквы плотно сели на гнезда, я не однажды отмечал, что селезни, оставшиеся «холостяками», улетают именно в этом направлении. Скорее всего, пруд привлек их как укромное и в то же время открытое для линьки место. Возможно, даже не столько сам пруд, сколько его берега, густо покрытые мягкой курчавой травой.
Ведь недаром в трактате Магнуса «О растениях», написанном в XIII столетии, говорится: «Зрение ничем так не утешается, как мягкой, тонкой, невысокой травой». А благожелательное влияние зеленого покрытия земли на человека отмечали многие врачи средних веков... В знаменитом Салернском кодексе здоровья есть и такое поучение: «Гладь водоемов и трава — глазам и сердцу утешение». Вот это как раз то, что мне так необходимо! Да и современная медицина утверждает, что спокойный, естественный зеленый цвет отлично снимает стрессы, восстанавливает трудоспособность, дает отдых утомленному сердцу.
Именно здесь, у Томашового пруда (не знаю, чем и как это можно объяснить, возможно, это вообще выше человеческого разума), я пришел к убеждению, что души умерших, особенно молодых, не успевших создать свою семью, родить детей, думают о нас, живых. И помогают нам больше и чаще, чем мы, живые, думаем и вспоминаем о них, умерших, оттого у нас порой бывает так тяжело и тоскливо на душе...
И именно тогда неудержимо влечет на тихий уютный берег Томашового пруда, который приютился на клочке земли, принадлежавшем когда–то моему прадеду Семену, под плакучую иву...
Вторая такая же ива росла примерно в километре и от пруда, и от деревни. Там, где полевая дорога от родной моей деревни Стукатичи на опушке Еловицы (так прозывается наш лес) выходит на старинный большак, вернее, на то, что осталось нераспаханным от древнего пути.
Погибла вторая ива в начале пятидесятых годов прошлого столетия: возле деревни шли какие–то армейские учения, а линия «обороны» проходила по опушке Еловицы — следы тех давних окопов видны до сих пор... На месте срубленной ивы солдаты вырыли капонир метровой глубины — орудийный дворик для 76–миллиметровой пушки, которая могла простреливать большак, с каждым годом все больше терявший свое изначальное предназначение...
Третья ива росла на противоположной стороне Еловицы, там была небольшая лесная делянка — всего–то восемьдесят шесть соток, принадлежавшая нашей семье со времен императора Александра II Освободителя.
Лес успели вырубить мои родители перед самой коллективизацией, когда стало известно, что частные леса будут монополизированы государством. Бревна вывезли на подворье деда Арсентия мои будущие родители, которые только что создали молодую семью и своими руками начали распиливать и тесать бревна и строить свое жилье, в котором и прожили свою жизнь до конца. Сейчас же в этой «хате» живу, а вернее сказать, доживаю свой век уже я...
Вырубленная делянка недолго пустовала. Пестрые лесные непоседы сойки наносили и попрятали в каждую щелочку горсти зрелых желудей. Что–то постепенно нашли и употребили, но значительная часть желудей осталась и дала поросль, со временем превратившуюся в чудесную дубовую рощицу. Впоследствии я обнаружил, что под кудрявыми дубками в изобилии родятся боровики. Случалось, что за час–полтора я находил здесь, под молодыми дубами, по сотне, а то и побольше пузатеньких крепышей в коричневых шапочках...

О четвертой иве я расскажу немного позже. А чтобы расставить точки над «i», необходимо сказать, почему этот уютный пруд носит имя Томаша.
Томаш, или Фома, был родным братом моего деда по отцовской линии — Арсентия. К сожалению, мне не слишком много известно о жизни Томаша. Хорошо знаю, что он служил в армии Российской империи. К тому же служил в Петербурге, точнее, в личном полку первоначально наследника всероссийского престола, а после коронации — Его Величества императора Николая II.
Более того, в качестве почетного конвоя с частью полка Томаш сопровождал наследника престола в Москву и там принимал участие в торжествах по случаю коронации на известном Ходынском поле. Как память о тех днях из жизни Томаша у меня бережно хранится красивое керамическое блюдо, покрытое зеленой глазурью, где по ободку идет надпись: «Наши деды пили–ели просто, а жили лет по сто». А на дне блюда — рельефное изображение двух степенных бородачей с кубками в руках, сидящих за столом. На таких блюдах участники коронационного обеда получали закуску... Кубок же, покрытый голубой глазурью, украшенный гербами Российской империи (из него в тот памятный день дед Томаш пил вино), сейчас хранится в семье моей старшей сестры.
Еще у меня осталась памятная серебряная медаль с профилем царя Николая, на оборотной стороне которой отчеканена надпись: «Коронован в Москве 14 мая 1896 г.». Этой медалью Томаш был награжден за участие в коронационных торжествах.
Сохранились еще две фотографии того 1896 года — Томаш со своими друзьями по воинской службе... Думаю, тут следует сказать, что земляков наших, белорусов, еще в позапрошлом столетии охотно брали на службу в роту дворцовых гренадер — элитное подразделение, несшее караул в Зимнем дворце в Санкт–Петербурге. Великий князь Михаил Павлович, брат Николая I, патрон гренадерской роты, не раз отмечал, что жители западных окраин «с лица чистые, взглядом открытые, ростом удалые».
Время от времени, хотя путь по тем временам был неблизким, Томаш приезжал в родную деревню. Почти каждый свой визит посвящал заботам о будущем. В первую очередь стремился приобрести еще один кусочек земли. В один из приездов собственными руками вырыл небольшой пруд на участке ранее купленной земли. А на восточном берегу пруда посадил плакучую иву — одну из четырех известных мне — и смастерил под любимым деревом уютную скамью.
Во время последующих приездов земляки–односельчане часто видели Томаша на этой скамейке, и не одного — с ним рядом почти все время была молодая красивая девушка. Односельчане хорошо знали и ее, это была Леопольдина, по–простому — Полина, дочь графа Ежи (Георгия) фон Гуттен–Чапского, внучка незаурядного владельца ряда белорусских поместий графа Эмерика фон Гуттен–Чапского, весьма значительного человека, служившего в свое время на высоких постах Российской империи. Девушка проходила обучение в Санкт–Петербурге на Высших женских медицинских курсах.
Сейчас, разумеется, никто не сможет сказать, знакомы ли были молодые люди еще на родине — ведь от деревни Стукатичи до дворца Гуттен–Чапских в Прилуках ровно четыре километра. Или же случилось так, что встретились и познакомились они уже там, в северной столице? В любом случае я убежден, что чувство землячества только укрепляло отношения между ними. Не ошибусь, если скажу, что определенное значение имело и то обстоятельство, что отец Полины в документах гражданской переписи 1916 года собственноручно написал — «белорус». Поэтому не вызывает удивления то, что, оказываясь в родных местах, молодые люди встречались, устраивали верховые экскурсии по окрестностям, а затем, отпустив лошадей пастись на покрытых луговым клевером берегах пруда, сами часами сидели на скамеечке под плакучей ивой...
О чем они беседовали, о чем мечтали — мне неизвестно. Но я убежден, что мечтали они о том же, о чем мечтают все молодые люди любой страны, — создать семью, построить собственное жилище, вообще жить на земле...
А сейчас на берегу пруда сижу я... Вот только ни той ивы, ни той скамеечки не сохранилось, хотя иву я помню еще с детства. Не один раз приходил сюда со своей матерью, чтобы помочь ей постирать в воде пруда новые полотняные холсты, которые смогла она соткать урывками от колхозной и домашней работы. Те холсты, после стирки и просушки разостланные по луговому клеверу, чисто отбеливались под ярким солнцем, приобретая необычайные для домашнего полотна шелковистость и мягкость. Правда, вода Томашового пруда была тогда на удивление прозрачной и не мутнела, только была очень холодной, хотя родники со дна пруда не струились. Не было тогда еще ни осоки, ни иной околоводной растительности на берегах... Зарастать пруд начал лет сорок назад, после того как почти рядом с ним начали копать глину для кирпичных заводов Минска. И чем ближе приближается забор карьера к пруду, тем сильнее он зарастает, тем меньше воды в нем остается. Знаменитый человеческий фактор — никуда его не спрячешь...
За спиной у меня — в сотне шагов — пролег Екатерининский тракт, или «гостинец», как зовут его издавна мои земляки. Проложен он был сотни лет назад для поездки российской императрицы из Москвы до Варшавы, через Минск и Брест. Недавно один из радиожурналистов назвал его Койдановским шляхом, не знаю, по какой причине — я за всю свою долгую жизнь слышу такое название впервые, а походил и поездил по этим «гостинцам» немало...
Передо мной далеко на западе, почти у самого горизонта горбатятся по краю глиняного карьера группки извечных курганов. С каких времен берегут они покой нашей земли — то ли с французских, то ли со шведских, а возможно, и с татарских — никто не знает. Правда, пару лет назад археологи провели раскопки нескольких курганов по соседству с нашей деревней и определили, что люди здесь жили еще во времена битвы на Немиге... Столетия пробегают над окрестностями почти неосязаемо. Вот и пруд Томаша существует уже более века.
Смотрю на скатывающееся за горизонт солнце и думаю: видимо, помыслы двух молодых сердец — Томаша и Полины — были столь искренни и чисты, что излучали такую положительную энергетику, целебное влияние которой сказывается и по сей день. Не зря же я, проведя несколько часов в этом, если можно так сказать, родовом, намоленном уголке белорусской земли, каждый раз чувствую себя буквально исцеленным и помолодевшим — словно подзаряженным на целый год!
К слову, давняя истории трагической любви Томаша и Полины, на мой взгляд, в какой–то степени напоминает любовь княжны Сонечки Долгорукой к недавнему крепостному крестьянину Никите из современного телесериала «Бедная Настя».

В архивных документах есть сведения, что примерно в 1634 году имение Стукатичи (это моя родная деревня) вместе с давним монастырем, который существовал тогда в селении Прилуки, перешло во владение частного лица. Позже на месте монастыря был построен дворец, последним владельцем которого и был граф Ежи (Георгий) Эмерикович фон Гуттен–Чапский, младший брат графа Кароля, который проживал не так далеко — в другом семейном поместье Станьково.
Как мне удалось выяснить из воспоминаний родственников и тех скромных документов, которые сохранились в семейном архиве, граф Ежи слыл человеком спокойным, рассудительным, доброжелательным. Но очень страдал от тяжелой болезни — говорили, что графа «рак грызе», что порою вносило свои особенности в его поведение... Я советовался с современными врачами, и все они склоняются к мнению, что, скорее всего, это было не раковое заболевание, а костный туберкулез, причем в открытой форме. Лечили графа своеобразно, можно сказать, по–варварски: живую курицу специально обученный повар одним ловким ударом разрубал вдоль и половинку куриной тушки прикладывал местом разреза к открытой ране на спине больного — «кармiлi рака», — туго прибинтовывая лентой из домотканого полотна. Дня через два полувысохшие остатки курицы заменялись свежей порцией «лекарства»...
Семья графа Ежи была довольно большая — шесть дочерей и только один, самый младший, сыночек, после родов которого мать умерла. Содержать такое семейство было не так просто, поэтому Гуттен–Чапский время от времени пускал на продажу небольшие участки земли. Разумеется, что Полина как дочь хозяина всегда знала, когда и какую землю выставят на продажу. А уже от Полины это известие своевременно получали и Томаш, и Арсентий, приобретая по возможности очередную делянку земли. В итоге к 1917 году, а далее и вплоть до самой коллективизации наша семья имела во владении шесть с половиной гектаров земли, причем это владение насчитывало 33 самостоятельных делянки!
Некоторые детали из жизни Томаша мне рассказывал еще дед Арсентий, что–то добавил отец, но оба они были не слишком разговорчивыми. Поэтому главное я узнал от своей старшей сестры Розы. Ей повезло многое услышать от бабушки Юстинии, ведь та была свидетельницей, а иногда и непосредственной участницей этой трагической истории...
в тот год, в самом начале мая Юстиния проснулась, как всякая порядочная крестьянка, на рассвете и вышла на крыльцо. Воздух, казалось, был густым от пьянящего аромата цветущих вокруг избы деревьев знаменитой слуцкой бэры. К стволу груши, что росла почти возле самого крыльца, была привязана оседланная лошадь, которая временами тревожно всхрапывала и была такой знакомой...
Юстиния обеспокоенно огляделась — и у нее буквально отнялись ноги: совсем рядом с избой на жерди журавля колодца неподвижно повисло женское тело. И хотя лицо девушки почти до пояса было закрыто распущенными волосами, густыми и длинными, не узнать ее было нельзя. Это была Полина фон Гуттен–Чапская...
— Господи! — запричитала Юстиния, мгновенно узнавшая покойную. — Арсень, скорее беги сюда, несчастье! Ой, какое несчастье!
Арсентий с помощью Юстинии бережно сняли тело девушки и положили его на скамейку у колодца. Затем молча — он уже понял, что какое–то несчастье случилось и с его братом Томашом, — запряг свою лошадь и выехал со двора, направляясь в Прилуки...
Между тем в этот же час в своей комнатушке на втором этаже корчмы проснулся еврейский мальчишка Нохим, сын владельца прилукской корчмы Генделя Пучинского. Мальчик выглянул в окно и испугался — на противоположном берегу Птичи, которая протекает здесь под самыми окнами, под плакучей ивой неподвижно лежал человек. Нохим сразу же побежал к отцу. Корчмарь, который хорошо знал людей в окрестных деревнях, сразу же узнал мужчину — это был Томаш — и понял, что тот уже мертв...
(Окончание в следующем номере.)
Анатолий ДОЛМАТ.