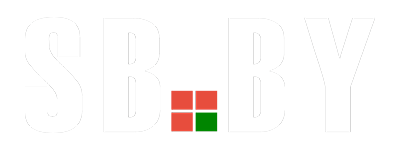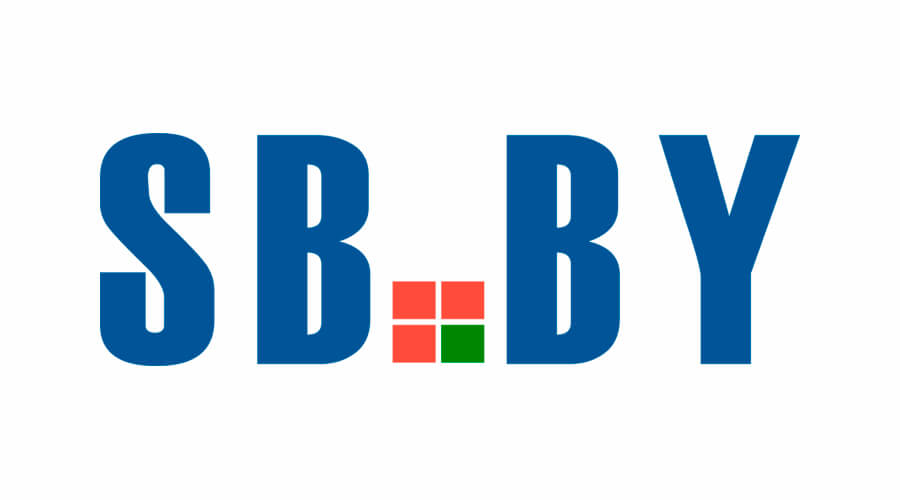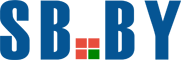Нужно ли сегодня спорить о поэзии? Может, кому–то покажется, что это неактуально, но обстоятельный разговор на эту тему становится разговором о проблемах культуры и общества в целом. Сегодня мы знакомим вас с сокращенным вариантом интервью с российской поэтессой Мариной Кудимовой и с рассуждениями на ту же тему наших литераторов.
Мне давно не дают покоя ранние строки Марины Кудимовой: «Спите, мои дорогие товарищи! Мы не бездарны, мы обездаривши». Это — о поколении. Поколении Ивана Жданова, Александра Еременко, Марины Кудимовой. Это поколение резко заявило о себе в середине 80–х. Тем, что «не бездарно». Но на переломе 90–х и перевале нулевых не менее резко сошло в тень, уступив место другим. Где новые книги Еременко, Жданова, Кудимовой? Перестали творить? Или — публиковаться? «Область» — последняя поэтическая книга Марины — издана в 1990–м. Это напоминает затвор, обет молчания. Нет, публицистика и эссеистика продолжают ее в некотором роде кормить. Однако, думаю, не окормлять. Никогда не слышал, будучи в одних поездах и гостиницах, чтобы она читала собственные стихи. Чужие — сколько угодно. В том числе «шестидесятников». Между тем «шестидесятники», коих, правда, осталось мало, существовали всегда — и в 60–х, и в 90–х. Да и сейчас. Казалось бы, две близкие генерации. Но какое несхожее отношение к неприкосновенному запасу Вечности!
— Марина, отчего такая поведенческая разница между двумя поколениями? Чем она продиктована?
— Много лет я об этом думала. И пришла к мысли, что мое поколение стало жертвой монокультурной политики. Как известно, когда–то плодороднейшая Вахшская долина в Узбекистане, которая могла бы давать 4 урожая в год, — это лучшие в мире персики, дыни, виноград — была засеяна совершенно неконкурентоспособным хлопком. А в это время в нищей Индии произрастал хлопок, славившийся на весь мир. У нас в культуре произошло примерно то же самое. У покойной поэтессы Ольги Гречко есть такая строка: «Не убили. Не дали имен...» Мое поколение попало в зазор между литературой преподносимой и тем, что я называю «литературой в отсутствии». Когда сгорела Александрийская библиотека, Гуттенберг еще не изобрел свой станок. Хотя, возможно, все мы — жертвы того пожара. Потому что упустили в культуре, может, нечто такое, без чего в духовном смысле не вполне состоятельны. А наша российская ситуация была еще круче. Вся так называемая запрещенная литература выразилась в книжном дефиците. И, как выяснилось потом, — в отсутствии базовой поэтической культуры, которую, конечно, составлял Серебряный век. И, разумеется, все мы — его духовные дети. Но мы были лишены этих книг, а вместо них лицезрели долины, засеянные хлопком. Правда, в отличие от узбекского хлопком конкурентоспособным. Я имею в виду «шестидесятников». В тех долинах можно было собирать по 4 урожая в год. Посему все силы были брошены на этот хлопок. И когда пришло новое поколение, тоже способное давать 4 урожая, но уже не на хлопковых плантациях, его элементарно проигнорировали. Хлопок, и только хлопок.
 — То есть принципиальное различие этих поколений в том, что одно сразу вышло в свет и к его ослепительности быстро привыкли, а другое изначально формировалось во тьме? «Обузданная, обуздавшая, я к представленью опоздавшая». Это твои же слова. Но ни тебя, ни твоих поэтических соратников тьма не пугала в отличие от тех, кто внутренне паниковал уже при малейшем отсутствии света? А для вас тьма — мать родна.
— То есть принципиальное различие этих поколений в том, что одно сразу вышло в свет и к его ослепительности быстро привыкли, а другое изначально формировалось во тьме? «Обузданная, обуздавшая, я к представленью опоздавшая». Это твои же слова. Но ни тебя, ни твоих поэтических соратников тьма не пугала в отличие от тех, кто внутренне паниковал уже при малейшем отсутствии света? А для вас тьма — мать родна.
— Ну да. В свое время Андрей Вознесенский — анаграмматически и визуально — обыграл «тьматьматьтьмать...». Но у меня напрашивается сравнение: если тьма — анаграмма матери, то все–таки не трагедия, что ребенок в материнской утробе не знает, что такое свет, и пребывает в воде. Это его органичная среда. Однако трагедия, если он не родится и из этой тьмы не выйдет. Это уже глубокая дисфункция и аномалия. Значит, он должен родиться.
— Тогда в чем мотив ухода поколения в тень?
— Я думаю, что тот стыд, в ампутации которого подозревал свое поколение Андрей Вознесенский («Нам, как аппендицит, поудалили стыд»), опять нарос. Как раз к моменту созревания моего поколения. Потому что говорить в вату бессмысленно, но говорить то, чего от тебя ждут и хотят слышать по закону шоу–бизнеса?.. Может быть, это что–то подсознательное — отстраниться. Хотя у меня, например, осознанное. Насколько я знаю, у покойного Леши Парщикова тоже был абсолютно осознанный выбор: не говорить того, чего от тебя ждут. И таким образом сохранять элемент элитарной культуры, некоего гумуса, тончайшего плодородного слоя, без которого никакая культура не живет.
— В таком случае, может, миссия поэта не в том, чтобы неукоснительно питаться отзвуком? Не случайно ведь Волошин обмолвился: «Темен жребий русского поэта»...
— Я думаю, что все–таки миссия поэта глубоко футурологична. Настоящий поэт работает на будущее. А «шестидесятники» выбрали путь отнюдь не легкий. Даже страшно тяжелый. Его можно определить двумя словами: «Здесь и сейчас». Это труд, который и вознаграждается «здесь и сейчас».
— И, возможно, на этом заканчивается?
— Более того, судьбы ранее ушедших это подтверждают. Сегодня никто не читает Роберта Рождественского. И трудно себе представить, что мы начнем его читать. Но культурное разнообразие прежде всего предполагает и культуру молчания. Молчание поэта иногда бывает таинственнее и значительнее, чем непрерывное стихоговорение. В этом мое поколение могло убедиться. Потому что сегодня поэзия, совершив полный круг, пришла к своего рода «шестидесятничеству» — переместилась в фестивали и тусовки, которые то же самое, что и поэзия большой спортивной арены, как я называю поэзию эстрадную. Только — на более локальном и более пародийном пространстве. Нынче стихи читают друг для друга те, кто их пишет. А «шестидесятники» читали для огромной аудитории. Но если говорить уже о другой функции поэта — просветительской и педагогической (она была всегда), то воспитывает, как выяснилось, книжная поэзия. Поэзия, звучащая, когда вся страна превращается в гигантский Политехнический, в той же огромной степени пролетает мимо ушей. Потому что чтение на Руси, книжная культура — это же традиция монастырей. Это — исконное. Когда ты с книгой, то вольно или невольно в каком–то глубоком, почти молитвенном состоянии. Вот чего, собственно, мы лишились. Как известно, в истории все движется от трагедии к фарсу. Поэтому сегодняшняя фестивально–тусовочная поэзия — это, конечно, фарс. Ни у кого из ее адептов нет ни такой харизмы, ни такой аудитории, ни такого потенциала, как у «шестидесятников».
— «Ах, до чего не алконостное, не сиринное правит племя!» — написала ты. А я вспоминаю свой недавний телефонный разговор с поэтом Сергеем Строканем, одним из тех, кто знает цену слову и за которым — отечественная и мировая традиция. Строкань поведал мне о некоем поэтическом турнире, в который ввергся он со товарищи. Противную же сторону представлял планктон, зародившийся в интернете. Судьи и публика, очевидно, тоже были из того же планктона...
— А! Это верлибристы и силлаботоники? Меня на этот турнир звали. Я, слава Богу, в нем не участвовала.
— В результате победили не те, кто «знает цену слову», а планктонисты. «Такого быть не может!» — едва ли не в ужасе воскликнул Сережа. И спросил: «А что если это смерть литературы?!»
— Ну, смерть. Значит, будем хоронить литературу. Хотя трагедии здесь я как раз не вижу. Если речь о литературе, то смерть есть прежде всего смена языка.
— Выходит, для нашего общества язык планктона предпочтительнее?
 — Нет, не предпочтительнее. Потому что мы опять говорим о звучащей поэзии. В мире посткультурном предпочтительнее посткультурное пространство. Это пространство неродившейся новой культуры. А планктон будет слушать планктон. Мы с тобой помним, как в Советском Союзе процветало самодеятельное творчество. Что это было? Всего–навсего некое робкое подражание «шестидесятникам». Все хотели выступать на сцене Политехнического. А артист старой школы, великолепный Борис Ливанов, когда ему предложили встретиться с какими–то самодеятельными артистами, у дамы, его приглашавшей, спросил: «Скажите, а вы бы пошли к самодеятельному гинекологу?» Вопрос в том, что эпоха самоучек, которая началась где–то на рубеже 50–х годов прошлого века, по идее, должна была плавно перерасти в эпоху профессионалов. Потому что только из профессионалов вызревает культурная элита. Но момент был упущен, и общество опять встретилось с теми же самоучками. Так чего же хотят люди, получившие профессиональную закалку в молчании, в затворе? Я ждала дня получения стипендии, чтобы в мерзлом автобусе за 100 километров трястись в какой–то райцентр, где по наводке, может быть, мне удастся купить томик Пастернака. Знание, добытое усилием, имеет другую цену... Сегодня знание безусильно, поэтому поверхностно.
— Нет, не предпочтительнее. Потому что мы опять говорим о звучащей поэзии. В мире посткультурном предпочтительнее посткультурное пространство. Это пространство неродившейся новой культуры. А планктон будет слушать планктон. Мы с тобой помним, как в Советском Союзе процветало самодеятельное творчество. Что это было? Всего–навсего некое робкое подражание «шестидесятникам». Все хотели выступать на сцене Политехнического. А артист старой школы, великолепный Борис Ливанов, когда ему предложили встретиться с какими–то самодеятельными артистами, у дамы, его приглашавшей, спросил: «Скажите, а вы бы пошли к самодеятельному гинекологу?» Вопрос в том, что эпоха самоучек, которая началась где–то на рубеже 50–х годов прошлого века, по идее, должна была плавно перерасти в эпоху профессионалов. Потому что только из профессионалов вызревает культурная элита. Но момент был упущен, и общество опять встретилось с теми же самоучками. Так чего же хотят люди, получившие профессиональную закалку в молчании, в затворе? Я ждала дня получения стипендии, чтобы в мерзлом автобусе за 100 километров трястись в какой–то райцентр, где по наводке, может быть, мне удастся купить томик Пастернака. Знание, добытое усилием, имеет другую цену... Сегодня знание безусильно, поэтому поверхностно.
— Тогда, может, Россия достойна тех, кто ей ныне сужден? Если во «властителях дум» — Лариса Рубальская?
— Это, несомненно, так. И что оно доказывает? Что культура — организм развивающийся и очень нелинейный. Как у любого ребенка. Он вроде растет все время в высоту и не понижается, но у него же бывают колоссальные периоды регресса. Когда вчерашний отличник вдруг становится полным балбесом. Точно так же и в культуре бывают всяческие откаты и временные предпочтения... На мой взгляд, шкала русской поэзии сбита. Не могу сказать, что безнадежно. В конце концов, даже усилия людей, которые создают бесконечные антологии русской поэзии, так или иначе нацелены на то, чтобы попытаться выправить ситуацию. Это попытка создать как бы полный «перечень причин», заполнить зияния и пустоты. И я очень надеюсь, что когда–нибудь этот список все–таки будет создан.
Беседу вел Юрий БЕЛИКОВ,
ПЕРЕДЕЛКИНО — ПЕРМЬ.
Рассуждения на тему
Людмила РУБЛЕВСКАЯ, писательница, обозреватель «СБ»:
 — У Борхеса есть рассказ о птицах, которые повсюду ищут легендарную птицу Симург... Пока им не открывается истина: Симург — это они и есть, вместе взятые. Споры литераторов о современной литературе напоминают мне иногда поиски тех пернатых романтиков... С расстояния в век отдельные, зачастую воюющие между собой творческие единицы воспринимаются как нечто одно. Выделят ли нас, литературное поколение перестройки, спустя век из литературы конца ХХ века? И как охарактеризуют? «Провалились» в трещину эпохи? А может, кто–то из поколения будет произведен в гении, заполнив «провал»? Ощущение «провала» появляется в сравнении с судьбой предыдущего, советского, поколения писателей. Они привыкли к исключительному положению в обществе, имели свои поликлиники, дома творчества, поездки на фестивали и выступления на стадионах... И вдруг все это было утрачено — вместе с миллионными тиражами и массовыми переводами на языки братских народов. Что и порождает тоскливую ностальгию. А сегодняшние молодые поэты и не надеются жить высокой литературой. Конечно, можно твердить про себя строки Цветаевой «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед»... Но произведения — не драгоценные камни, а кровяные тельца, которые должны вступать в обмен веществ эпохи. Другого времени для творчества у нас не будет, поэтому, по моему мнению, уходить в затвор, ссылаясь на неблагоприятные обстоятельства, проще всего, но неблагородно, особенно в контексте белорусской литературы, которая живит белорусский язык и создает национальный миф. Вначале должны появляться достойные тексты, а затем уже — разговоры о том, что их не ценят.
— У Борхеса есть рассказ о птицах, которые повсюду ищут легендарную птицу Симург... Пока им не открывается истина: Симург — это они и есть, вместе взятые. Споры литераторов о современной литературе напоминают мне иногда поиски тех пернатых романтиков... С расстояния в век отдельные, зачастую воюющие между собой творческие единицы воспринимаются как нечто одно. Выделят ли нас, литературное поколение перестройки, спустя век из литературы конца ХХ века? И как охарактеризуют? «Провалились» в трещину эпохи? А может, кто–то из поколения будет произведен в гении, заполнив «провал»? Ощущение «провала» появляется в сравнении с судьбой предыдущего, советского, поколения писателей. Они привыкли к исключительному положению в обществе, имели свои поликлиники, дома творчества, поездки на фестивали и выступления на стадионах... И вдруг все это было утрачено — вместе с миллионными тиражами и массовыми переводами на языки братских народов. Что и порождает тоскливую ностальгию. А сегодняшние молодые поэты и не надеются жить высокой литературой. Конечно, можно твердить про себя строки Цветаевой «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед»... Но произведения — не драгоценные камни, а кровяные тельца, которые должны вступать в обмен веществ эпохи. Другого времени для творчества у нас не будет, поэтому, по моему мнению, уходить в затвор, ссылаясь на неблагоприятные обстоятельства, проще всего, но неблагородно, особенно в контексте белорусской литературы, которая живит белорусский язык и создает национальный миф. Вначале должны появляться достойные тексты, а затем уже — разговоры о том, что их не ценят.
Алесь БАДАК, поэт, заместитель директора холдинга «Лiтаратура i мастацтва»:
 — То, что произошло с русской поэзией буквально за одно десятилетие, если вести отсчет от конца 80–х, было неизбежным. В 1987 году в издательстве «Советский писатель» выходит огромная, почти в 30 учебно–издательских листов новая книга Андрея Вознесенского «Ров» тиражом 200.000 экземпляров. Он по–прежнему собирает большие залы, дает многочисленные интервью. Но перемотаем пленку времени на 10 лет вперед: на экране место Вознесенского заняли Владимир Вишневский и Лариса Рубальская, Пугачева выдающимся поэтом называет Леонида Дербенева. Массовый читатель благодаря тем же «шестидесятникам», выступающим на стадионах и в концертных залах с трансляцией по ЦТ, за достаточно длительный период привыкший к зрительному восприятию настоящей поэзии (а «бумажные версии» достать многим было просто невозможно), очарованный магией экрана, легко переключился на псевдопоэзию, приняв ее за чистую монету.
— То, что произошло с русской поэзией буквально за одно десятилетие, если вести отсчет от конца 80–х, было неизбежным. В 1987 году в издательстве «Советский писатель» выходит огромная, почти в 30 учебно–издательских листов новая книга Андрея Вознесенского «Ров» тиражом 200.000 экземпляров. Он по–прежнему собирает большие залы, дает многочисленные интервью. Но перемотаем пленку времени на 10 лет вперед: на экране место Вознесенского заняли Владимир Вишневский и Лариса Рубальская, Пугачева выдающимся поэтом называет Леонида Дербенева. Массовый читатель благодаря тем же «шестидесятникам», выступающим на стадионах и в концертных залах с трансляцией по ЦТ, за достаточно длительный период привыкший к зрительному восприятию настоящей поэзии (а «бумажные версии» достать многим было просто невозможно), очарованный магией экрана, легко переключился на псевдопоэзию, приняв ее за чистую монету.
Поэты, всерьез заявившие о себе в середине 80–х и творчески окрепшие к середине 90–х, чтобы стать «широко известными», должны были что–то противопоставить стихотворной упрощенности, ибо уподобляться ей не могли и не хотели. Но что? По примеру «шестидесятников» писать остросоциальные, с двойным подтекстом вещи? Но двойной подтекст как форма литературного выражения мысли к этому времени исчез напрочь. И как только с запретного плода — слова — сняли этот самый запрет, для большинства «потребителей» он перестал быть сладким. Оставалось просто творить в противовес пошлости, создавать обращенную к вечности поэзию, надеясь, что читателю надоест шоу и ему захочется именно ее. Но для восприятия серьезной поэзии необходимо уединение, а это для современного человека стало большой проблемой даже дома.
Судьба белорусской поэзии во многом схожа, но в ней есть и существенные различия. Ни в шестидесятые, ни позже она не была стадионной, модной. Тем не менее глубоко заблуждается тот, кто считает, что все эти десятилетия наша поэзия существовала автономно от читателя, поддерживаемая исключительно государством. Она собирала камерные залы — библиотечные, аудиторные, и ее слушатель, в большинстве своем в повседневном обиходе не пользующийся белорусским литературным языком, приходил послушать в том числе и красивую белорусскую рифмованную речь, почувствовать глубоко в душе то, что на генном уровне было заложено предками. И вот эта функция, это значение белорусской поэзии остались по сей день, поэтому остался и свой читатель.
Петро ВАСЮЧЕНКО, писатель, литературовед:
 — Боль российской поэтессы мне понятна, и обидно, наверное, что «шкала русской поэзии сбита», но это не служит поводом для ответной грусти о поэзии белорусской. Параллель не просматривается.
— Боль российской поэтессы мне понятна, и обидно, наверное, что «шкала русской поэзии сбита», но это не служит поводом для ответной грусти о поэзии белорусской. Параллель не просматривается.
Потому что преемственность поэтических поколений в белорусской литературе не нарушается, а укрепляется. Традиция сильна. Хорош и поэтический авангард. В нашем литературном пространстве прекрасно просматривается поколение «тутэйшых», которые начинали как раз в 1980 — 1990–е годы, а сегодня представляют центр литературного процесса. Многие пишут хорошую поэзию, чему не препятствуют вылазки в интернет (имена не называю, отчасти из опасения кого–нибудь обидеть, а отчасти потому, что таких действительно немало). Исключение — те, кто уже отошел в мир иной (Анатоль Сыс), но вокруг таких уже начинает сгущаться сияющий нимб классиков.
Наши проблемы в ином. Нашу хорошую поэзию мало переводят, мало читают, мало издают в большом литературном мире.
Оксана БЕЗЛЕПКИНА, писательница, литературовед, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературно–художественной критики Института журналистики БГУ:
 — Калi я дапiсвала сваю кнiгу пра таварыства «Тутэйшыя», то мяне зачапiла кiнутая кiмсьцi ў iнтэрнэце фраза, маўляў, кнiгi ўсiх прадстаўнiкоў пакалення «тутэйшых» можна прачытаць за тры днi. I тады, у 2003 годзе, гэта было праўдай. Чаму ж аўтары, народжаныя ў канцы 1950–х — пачатку 1960–х гг., так шмат зрабiлi для лiтаратурнага працэсу ў 1980–х гг. i так мала напiсалi? I чаму яны замаўчалi ў 1990–х гг.?
— Калi я дапiсвала сваю кнiгу пра таварыства «Тутэйшыя», то мяне зачапiла кiнутая кiмсьцi ў iнтэрнэце фраза, маўляў, кнiгi ўсiх прадстаўнiкоў пакалення «тутэйшых» можна прачытаць за тры днi. I тады, у 2003 годзе, гэта было праўдай. Чаму ж аўтары, народжаныя ў канцы 1950–х — пачатку 1960–х гг., так шмат зрабiлi для лiтаратурнага працэсу ў 1980–х гг. i так мала напiсалi? I чаму яны замаўчалi ў 1990–х гг.?
Распад СССР выклiкаў руйнаванне самога лiтаратурнага працэсу, лiтаратура перастала быць прафесiяй, а сем’i па–ранейшаму трэба было кармiць. Цiкава, што ў 2000–х гг. адбылося масавае вяртанне: хтосьцi выдаваў свае старыя вершы (П.Змiтрук), хтосьцi пiсаў новыя творы (У.Сцяпан, М.Клiмковiч, А.Наварыч).
Гэты пералом вельмi моцна адбiўся на героi сучаснай прозы. У большасцi выпадкаў яму мулка ў нашым часе. Ён можа быць рамантычным i iдэалiзаваным, з выразным усведамленнем таго, што лепей бы яму жыць у якiм–небудзь ХIХ ст. (героi Л.Рублеўскай). Ён можа быць маргiнальным, рэфлексiўным, Ён — «кранальна бездапаможны iнтраверт» (героi А.Федарэнкi) альбо ён займае пазiцыю назiральнiка (героi А.Глобуса), а значыць, таксама не ўключаецца ў сацыяльную iерархiю. Але гэтыя героi — носьбiты традыцыйнай сiстэмы каштоўнасцей. А вось героi пакалення 35–гадовых пiсьменнiкаў прызнаюцца ва ўласнай слабасцi i прымаюць яе (А.Бахарэвiч). Яны здраджваюць сябрам, каханым, бацькам, радзiме, бо адчуваюць сябе несвабоднымi ў прыманнi рашэнняў, зрэшты, яны i не гатовы iх прымаць.
Сучасныя пiсьменнiкi мала ведаюць жыццё (таму пiшуць пра сябе i свой побыт), не маюць такой магчымасцi, як у савецкiя часы, сустракацца з людзьмi, таму спробы эпiчна асэнсаваць сучаснае жыццё не заўсёды мелi поспех, i многiя пiсьменнiкi абышлi гэтае пытанне. Наогул усе працэсы ў лiтаратуры выклiканы знiжэннем статуса пiсьменнiка. Лiтаратура стала хобi, заняткам для часу, вольнага ад асноўнай прафесii. Але калi пiсьменнiк не можа вучыць жыццю, то ён можа забаўляць чытача. А.Хадановiч паказаў маладым аўтарам занадта прывабны ўзор сучаснай «эстраднай» паэзii: моцная версiфiкацыя + iнтэлектуальнасць + гумар + аўтарская харызма.
Калi беларускiм пiсьменнiкам здавалася, што яны не цiкавыя не толькi дзяржаве, але i свайму чытачу, то iм на дапамогу прыйшоў iнтэрнэт, дзе аўтары сутыкнулiся са сваiм чытачом i атрымалi моцную зваротную сувязь. Iнтэрнэт павысiў шансы на вядомасць i рэгiянальных пiсьменнiкаў (С.Балахонаў, А.Паўлухiн, В.Гапееў). Вазьму на сябе смеласць сцвярджаць, што з крызiсу першай выйдзе проза. Менавiта ў ёй зараз з’яўляецца больш iмён, якiя саспеюць у блiжэйшыя 5 — 10 гадоў.
Ирина ШЕВЛЯКОВА, критик, литературовед:
 — Практика выживания белорусской поэзии в первое десятилетие нынешнего столетия — это движение против течения не только литературного мейнстрима, но и против чаяний информационного общества вообще, для которого хорошая литература — это литература прибыльная и удобная. Возможно, российский «настоящий поэт» может себе позволить роскошь работать на будущее. Если белорусские поэты, принадлежащие к поколению так называемых «девяностиков» (З.Вишнев) / «девяностников» (А.Турович) не станут сегодня с максимальной для их возраста энергией работать на настоящее, будущего у белорусской поэзии (не путать с утилитарным стихосложением!) может просто не случиться. Ведь в «зазорах» между эпохами могут исчезать поколения не только поэтические, но и читательские.
— Практика выживания белорусской поэзии в первое десятилетие нынешнего столетия — это движение против течения не только литературного мейнстрима, но и против чаяний информационного общества вообще, для которого хорошая литература — это литература прибыльная и удобная. Возможно, российский «настоящий поэт» может себе позволить роскошь работать на будущее. Если белорусские поэты, принадлежащие к поколению так называемых «девяностиков» (З.Вишнев) / «девяностников» (А.Турович) не станут сегодня с максимальной для их возраста энергией работать на настоящее, будущего у белорусской поэзии (не путать с утилитарным стихосложением!) может просто не случиться. Ведь в «зазорах» между эпохами могут исчезать поколения не только поэтические, но и читательские.
Перемещение поэзии в фестивали и тусовки М.Кудимова отождествляет с триумфом фарса — допускаю, что это абсолютно справедливо по отношению к российскому литературному пространству. Парадоксальность ситуации, в которой оказалась в начале ХХI века белорусская поэзия, связана с тем, что именно фестивали, слэмы, различные литературные проекты, «выложенные» публике в виде «окультуренных» шоу, сегодня оказываются едва ли не самой эффективной формой выживания, идеально подходящей «шоуцентричной» эпохе.
О поэзии «филологического поколения», наших «шестидесятниках», и сегодня говорят как о явлении уникальном; поэзия, заявившая о себе в середине 1980–х, все еще осмысливается как феномен. Белорусское поэтическое поколение 1990–х, возможно, самой историей обречено получить все награды «здесь и сейчас». Кажется, именно поэты–«авангардисты» очень точно (рационально) просчитали, что надо «жить по средствам», — и, не уповая на перспективы в вечности, ринулись «в народ», т.е. на фестивальные площадки, в клубы, в интернет. И стали уже сейчас получать свои дивиденды.
Прекрасно понимая, что каждый приличный поэт имеет право быть «романтиком» по отношению к прозе жизни, как белорусский филолог я вынуждена приветствовать поэтов– «прагматиков» — пока их личные интересы работают на будущее белорусской поэзии.