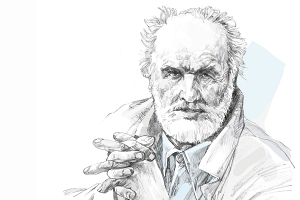— Выставка «Страна Перемилово» — она будто про всех нас. А как вы обрели эту деревню?
— Случайно: машина заглохла возле деревни. Ее, кстати, с дороги было не сразу и видно — пряталась среди деревьев на горке, и о том, что это Перемилово, сообщал лишь ржавый указатель. Я пошел за подмогой... Как потом выяснилось, вся моя предыдущая жизнь была лишь подготовкой к этой встрече.
Местные встретили нас с женой приветливо. Не очень трезвый дядя Леша с помощью молотка и проволоки привел в чувство мой «Москвич», а потом нам показали недостроенный дом — кривой–косой, но он стоял на самой вершине горки, участок косогором уходил к речке — поэтому его никто не хотел покупать. А мы глянули на этот косогор — и доводы разума перестали работать. Покупка дома противоречила всем нашим планам: до деревни можно добраться только на машине, в ней не было магазина, газа, телефона (мобильная связь и интернет, кстати, до сих пор отсутствуют). И с косогором этим, который не мог вспахать ни один трактор, мы тоже намучились. Но смотреть на него — по сей день большое счастье...
— Ваши персонажи на перемиловских картинках удивительно похожи друг на друга — все как родня. Вы специально так выбираете образы?
— Я не добиваюсь портретной «схожести» моих персонажей и их, условно говоря, прототипов. Нарисованные люди проходят сквозь мое восприятие, пропускаются через фильтры жизненного и художественного опыта, «переплавляются» в тигле воображения, общения с перемиловской природой... А на выходе получается некий архетип, отчасти вневременный, отчасти «принаряженный» в «одежку» тех времен, которые мне чем–то дороги. Возможно, у меня получаются мои, «любаровские» люди : да, неказистые, да, порой корявенькие, но эти люди импонируют мне своей самодостаточностью, умением принимать жизнь такой какая она есть, отсутствием высокомерия и нашей городской перекошенности. Эти люди не клянут судьбу, хотя она у них совсем непростая. У них своеобразный теплый юмор, и они не чужды самоиронии, с чем у нас в городе, особенно у граждан, которые гордятся своей образованностью, дела обстоят совсем неважнецки.
Мои персонажи мне симпатичны, как были симпатичны в начале девяностых годов те перемиловцы, которые приняли меня в деревне как своего. Я над своими персонажами подшучиваю, но беззлобно — как беззлобно подшучивали деревенские надо мною, городским придурком, который по приезде в деревню ничего не смыслил в их крестьянском быте, даже траву не умел косить. Перемиловцы заново научили меня чувству родственности, подрастерянному и подразмытому в городе. С их помощью я постиг «секрет завалинки» — секрет неспешного философского общения со всеми как с равными, обо всем на свете. Завалинка прививает чувство подлинности человеческого общения, и никакие социальные сети его не заменят.
И это правда, что мои персонажи подчас воспринимаются зрителями как родственники. Часто вспоминаю случай, который меня растрогал. У нашей знакомой престарелая матушка впала в старческую деменцию, даже близких не узнает. А возле ее кровати на стене висит календарь с моими картинками. Год закончился, дочь хочет его убрать. «Нет, — говорит старушка. — Этих людей оставь. Это мои родственники, я с ними разговариваю»...
— А как односельчане воспринимают ваши картины?
— Они всегда были очень деликатны и не требовали показать, что я рисую. Возможно, подозревали, что мое художество может им не понравиться, а обижать соседа не хотелось: быть неискренними деревенские люди не умеют. Я тоже никогда не рвался показывать им свои картинки — видимо, по сходным соображениям. В деревне ведь всегда есть риск схлопотать в глаз. Хотя мне еще ни разу не перепало...
Ну, а если кто–то из местных прорывался ко мне на чердак — за бутылкой, скажем, или поговорить по душам, тут уж он начинал рассматривать картинки, переставлял их туда–сюда, вздыхал и, как правило, надолго замолкал. С плеча не рубил, обдумывал вердикт. Одним нравилось то, что я делаю, другие категорически возражали. «Ты, Семеныч, неправильный художник, — говорил мне, к примеру, механизатор Вася. — Надо рисовать, чтоб похоже было и одновременно красиво. Чтобы я захотел стать лучше. Пить, скажем, бросил. Или курить. Искусство, Семеныч, должно меня воспитывать!» Велел мне учиться рисовать. Я обещал. А комбайнеру Саше, помню, все понравилось. Рассматривая моих персонажей, он смеялся, а потом загрустил и тоже пришел к выводу о воспитательной роли искусства. «Ты вот мусор изображаешь на своих картинах и тем самым говоришь человечеству: исправляться надо!». А был и такой товарищ, который узнал в персонаже себя (не факт, что я с него рисовал), и пришел ко мне требовать сатисфакции. Дело закончилось миром: стребовал с меня бутылку — за моральный ущерб, рассказал, как надо рисовать, — и удалился вполне удовлетворенным.
— Многие зрители сравнивают ваши полотна с Шагалом...
— Меня часто про это спрашивают: у вас люди тоже летают! Ну да, летают, и что с того? Шагал — великий художник, и если я смею себя сравнивать с ним, то только в том, что мы с ним близки по радостному восприятию мира. Для нас обоих мир — благодать, а не испытание... Но пластически мы с ним совершенно разные. И мои люди летают не так, как у Шагала, «подъемная сила» у них разная. Шагал — легкий художник, у него моцартовский взгляд на жизнь. Он легко выплескивает свой талант, у него легкий быстрый мазок. А у меня — очень тщательная проработка деталей, я подолгу корплю над каждым сюжетом...
А еще роднит нас с Шагалом то, что у него есть свой Витебск, а у меня — свое Перемилово.
— А вам доводилось бывать в Беларуси?
— К сожалению, пока нет, хотя бабушка жены родом из–под Могилева, и по этой линии у нас много трагических семейных историй, связанных с Великой Отечественной войной... А еще у меня было и есть несколько друзей–белорусов, очень качественных людей. Например, Станислав Старикович — я с ним работал в журнале «Химия и жизнь», лучше него никто, на мой взгляд, про животных не писал. Умный, добрый был человек, по жизни тоже философ вроде моих деревенских. По нему я сужу обо всех белорусах... Приятельствую я и с Русланом Вашкевичем, замечательным художником... Есть и другие люди, но, честно говоря, меня в последнюю очередь интересует национальность моих друзей, тем более что у большинства из нас в крови все мешано–перемешано. Ко мне на выставке как–то подошла одна женщина и спросила, какой национальности мои перемиловские герои. Я развел руками: не знаю. Но она удовлетворенно кивнула. «Мы все — как лоскутное одеяло, — сказала она. — Поэтому и жизнь у нас такая: то лоскут черненький, то в полосочку, а то и в цветочек. Не соскучишься!».
Ольга Штраус
Санкт–Петербург