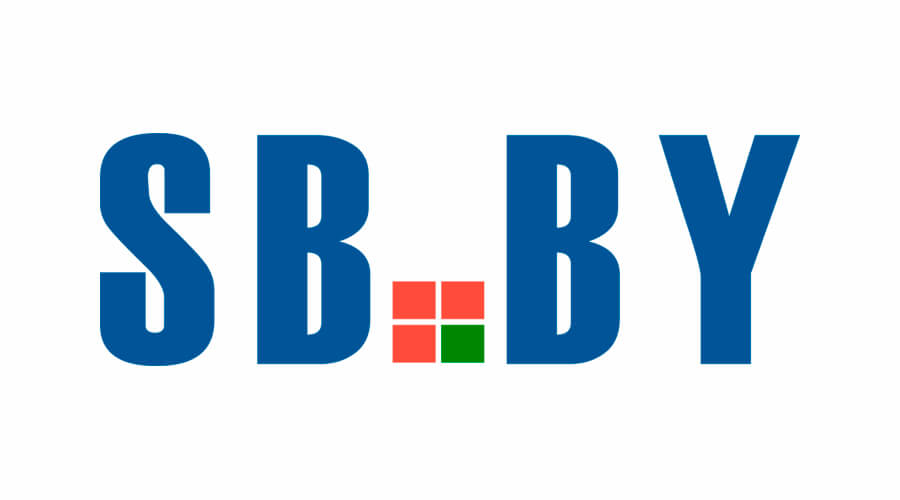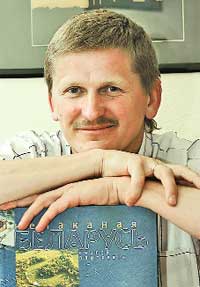 «Нечаканая Беларусь» – так называется не только разместившаяся на древних стенах въездной башни Мирского замка выставка, но и фотоальбом, куда вошли замечательные пейзажи известного фотохудожника, директора издательства «Рифтур» Сергея Плыткевича. Пятый по счету, как с гордостью говорит сам Сергей. До этого читатели уже смогли полюбоваться великолепными видами на страницах его «Беларускай экзотыкi», «Палесся», «Маёй Беларусi», «Ад Полацка пачаўся свет».
«Нечаканая Беларусь» – так называется не только разместившаяся на древних стенах въездной башни Мирского замка выставка, но и фотоальбом, куда вошли замечательные пейзажи известного фотохудожника, директора издательства «Рифтур» Сергея Плыткевича. Пятый по счету, как с гордостью говорит сам Сергей. До этого читатели уже смогли полюбоваться великолепными видами на страницах его «Беларускай экзотыкi», «Палесся», «Маёй Беларусi», «Ад Полацка пачаўся свет»....Привет, привет, мой давний знакомец! Так сколько же лет мы не встречались с тобой? Четверть века — за это время успело вырасти целое поколение, которое лучше меня знает дорогу в Мир и мир.
А помнишь нашу первую встречу? Я, тогда еще студентка журфака, на перекладных добиралась на практику в кореличскую «районку». И конечно же, не удержалась, увидев по пути величественные башни Мирского замка. Грандиозное и печальное одновременно зрелище являл он тогда — гениальный замысел создателей соседствовал с огромными варварскими разрушениями. Мертвые камины со следами сажи напоминали о том, что в загадочные прошлые эпохи здесь теплилась жизнь, винтовые лестницы круто вели под облака, а в сумрачных подвалах... Впрочем, что за след жизнедеятельности советского человека там оставался, лучше называть не стану.
Замок был одинок и печален, лишь одна из его пяти башен выглядела понаряднее и поухоженнее. Местные жители поговаривали, что вроде как пытались ее привести в божеский вид снимавшие здесь фильм кинематографисты. Мол, обновили ее для своих киношных нужд, а далее следует ждать настоящей реставрации. Только вот когда у государства до нее руки дойдут? На охранную табличку–то мало кто внимание обращает.
Получив журналистские «корочки», в один из первых отпусков я поехала на свидание к старому замку. Диво дивное, под его кирпичными стенами сновали люди — специалисты тогдашних Республиканских специальных научно–производственных реставрационных мастерских и археологи. Первые восстанавливали боевую галерею из заказанного по такому случаю фасонного кирпича из Прибалтики. Вторые с упоением рыли с помощью студентов Гродненского университета в старом дворе траншеи–шурфы. Уважив мое непраздное любопытство, показали будущее и прошлое замка. Манящие перспективы воплощал слайд–фильм с макетами залов в коврах и хрустальных люстрах на массивных цепях, галерей из портретов знатных владельцев. Прошлое являло свой запыленный лик в археологических находках: глиняных черепках, остатках изразцов, лоскутках слуцких поясов. Лучше всего сохранился стройной формы бокал синего стекла с легкой щербинкой–сколом времени. Этот бокал на ладони археолога, а может, заздравная чарка или штоф для тостов — застольный политес всех именитых обитателей замка вместе с их прикладным инвентарем–имуществом еще требует кропотливого изучения — словно излучал идущее из глубины веков сияние.
— А вот представьте, как здорово будет, когда сюда начнут приезжать туристы и на память о замке купят сувениры. Например, в виде такого вот бокала с рисунками башен. Или вытканный здесь же гобелен. Или браслеты в духе тех, что носили прежние владельцы, — размечтался обрадованный подвернувшимся поводом сделать передышку пожилой археолог. — Для того и создается здесь художественное профессионально–техническое училище: его выпускники помогут в реставрации и народных промыслах для туристов.
Изучившие замок как свои пять пальцев специалисты поделились и дефицитной по тем временам литературой по многовековой истории рукотворного белорусского чуда. Романтики в ней — даже при отсутствии баек про замковые привидения — было в избытке. Так что идея с «фамильными» бокалами–перстнями основательно запала мне в душу.
Но я не до конца осознала, в какие времена посмела с первого взгляда влюбиться в рыцарски прекрасный замок. Брежнев только–только отдал Богу душу, до Горбачева еще следовало дожить, и, хотя в Мире согласно принятым на государственном уровне решениям в 1983 году началась официальная реставрация памятника средневековой архитектуры, в реальности никому, оказалось, нет дела до моей восторженной статьи о кирпично–каменном шедевре и его гербовых обитателях. Все редакции, куда я приносила свое произведение, открещивались от пафосной лирики в адрес туманных Ильиничей, эксплуататоров Радзивиллов и Святополк–Мирских. И то, вздумала хвалить чуждых элементов с графскими и княжескими титулами, да еще местного пошиба — так и устои подорвать можно.
Сокращенный вариант статьи согласился напечатать лишь неравнодушный к отечественной истории еженедельник «Голас Радзiмы», за что я всю жизнь буду ему благодарна.
С тех пор судьба не забрасывала меня больше в кореличcкую «районку» — и, следуя ее крутым виражам, которые закладывала на исходе ХХ века новейшая история, замками и дворцами я начала любоваться все больше другими, в чужих краях расположенными. Ухоженными, как картинка, и гордящимися своими титулованными владельцами.
Но первую любовь ведь не забывают, правда?
Даже когда она давно стала платить взаимностью другим — тем, кто лучше хранит верность и чаще приезжает на свидания.
Впрочем, в том ведь и прелесть жизни — с ее негаданными встречами долгие годы спустя. Счастливая оказия на днях вновь привела меня в Мирский замок — на открытие выставки фоторабот коллеги — журналиста и фотографа Сергея Плыткевича под символичным названием «Нечаканая Беларусь».
Пожалуй, это немалая самонадеянность — демонстрировать свое искусство на древних башенных стенах. Таланты творца современности и созидателей из прошлого должны быть соразмерны: чтобы сиюминутная реальность не проигрывала на фоне вечности. Тем более реальность, запечатленная самым современным способом — цифровым фотоаппаратом.
Но к чести фотомэтра, реальность у него не только сиюминутная, не суета сует, не краткий миг праздного торжества, а тоже достойная вечности. Вечно–вековая красота природы нашей страны, похожей одновременно и на роскошные тропические джунгли, и на пышущую жаром пустыню, и даже на марсианский пейзаж. Стоит лишь посмотреть на нее с высоты птичьего полета. Точнее, с вертолета и самолета, с борта которых Сергей и любовался красотой своей родины.
Причем вот ведь феномен настоящего мастера — стремление не только увидеть все самому, но и запечатлеть для других. А затем подарить замку, чтобы разделить свое небесное видение со столь же неравнодушными к красоте родной земли другими зрителями. Так что 72 работы, декоративно развешенные в так называемой въездной башне, — ныне собственность замкового комплекса «Мир».
Именно так сегодня называется архитектурное сокровище Мира, получившее статус филиала Национального художественного музея Беларуси и находящееся под пристальным вниманием основательно взявшегося за его реставрацию государства. А поскольку туристам здесь уже есть что показать, то заведующий сектором по научной работе филиала Игорь Ложечник с гордостью провел нас по обширным замковым владениям. Продемонстрировав и обретающие законченность форм башни, и их романтически–прикладную начинку: будущие музейные помещения, конференц–зал, ресторан под древними сводами и даже комфортабельную гостиницу с открывающимся из окон изумительным видом на местные околицы. Сами знаете, древние градостроители умели выбирать места с толком и такой красотой вокруг, что глаз не отвести.
Восторгаясь всем этим великолепием (в концепцию восстановления замка входит вполне прагматичный, рыночный расчет поскорее окупить вложенные в реставрацию затраты), я, конечно же, вспомнила о синем бокале и попросила Игоря Николаевича показать последние находки археологов. Уцелевшей стеклянной посуды, похожей на впервые увиденную мной здесь 25 лет назад, в недавних раскопах пока нет — найдены и бережно хранятся лишь навевающие романтическую грусть желтоватые осколки неведомого назначения. Зато практически невредимым пришел из прошлого пузатый глиняный горшок, который нам и был с гордостью продемонстрирован.
Все это я к тому, что в сувенирных лавках в окрестностях комплекса я попробовала отыскать достойный 500–летнего замка сувенир с четким местным колоритом. Воспроизводящий, так сказать, историческую атрибутику данной местности. И, подобно побывавшим здесь недавно высоким гостям из Национального художественного музея и Министерства спорта и туризма, не нашла. Не покупать же у подножия средневековой махины пестрый бумажный веер китайского производства. Затерявшиеся среди аляповатых заморских поделок глиняные имитации здешних башен меня, честно говоря, тоже не воодушевили. Хотелось — да–да — штофа темного стекла, который наверняка подавался к столу прежних владельцев. Да чтобы не просто поставить на полку, а в добрую минуту достать для гостей и похвастаться: а «гербовая» посуда–то — из Мирского замка.
Вот пишу про запавшую мне давным–давно в душу идею мудрого археолога о сувенирах с романтически–национальной привязкой и грущу: пока мы будем раскачиваться, китайцы возьмут да и наладят выпуск псевдостаринных белорусских бутылей и чарок. Они — сама видела — даже венецианское стекло подделывают. Да и слуцкий пояс при желании выткут.
...Или все–таки найдется в наших пенатах не только неравнодушный к истории отечества фотограф, как это уже замечательно произошло нынче, но и подобный ему стеклодув, который в следующий раз пригласит журналистов в замок на выставку своих чудных произведений с хрустальным перезвоном?! Кузнец, гобеленщик, краснодеревщик — да кто угодно. В конце концов, можно продавать даже виды самого замка, сделанные с высоты птичьего полета...